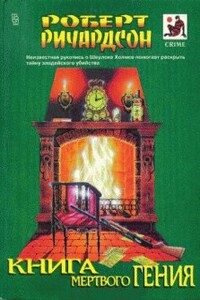Художник неизвестен. Исполнение желаний. Ночной сторож | страница 20
Он пошел обратно, не узнав меня. Не было причин предполагать, что он не поздоровался нарочно.
Длинноногий человек в блузе вскочил при его приближении и почтительно предложил свой стул. Таков был первый последователь нового учителя нравов — длинноногий, растерянный, голубоглазый. Второй был Жаба.
6
Каждый, кто в начале двадцатых годов учился в Ленинградском университете, знает Жабу.
Толстый и шумный, он целыми днями шатался по коридору и спорил. Я любил слушать его. Врожденный лингвист, смотрящий на все глазами своей науки, он спорил только о словах. Подобно детям, для которых называние мира подчас является объяснением его, он не мирился с тем, что общий разум уже назвал предметы и назначил им известное место в общей системе понятий. Утверждая, что имена вещей были продиктованы не разумом, но живым впечатлением, он переименовывал мир с такой же легкостью, как женщины переставляют мебель. Имена жили в его представлении отдельно от вещей — и не менее действительной жизнью.
Он был легкий, ленивый, любивший петь или бормотать. Я помню, как, зайдя к нему однажды, я нашел его лежащим на полу, на спине, на полуизодранной «Правде».
Печь топилась, он грел толстые ступни.
Огромный мешок с сахаром стоял подле него по левую руку, а по правую — чайник с водой, и он ел сахар, с хрустом, как сухари. А вокруг там и сям сидели серые крылышки газетной бумаги. Он отрывал от газеты по кусочку, прочитывал и бросал прочь. Когда я вошел, он с кряхтеньем доставал фельетон, застрявший где-то под поясницей.
— Я лежу здесь со вчерашнего дня, — сказал он мне, — и ем сахар; это очень полезно, и врачи утверждают даже, что он вполне может заменить все другие продукты питания. И я прочитал все, кроме этого проклятого фельетона, который застрял у меня под задом. Помоги мне достать его, милый, а я в благодарность расскажу тебе об одном замечательном открытии, о котором ты можешь, при желании, написать отличную книгу с предисловием академика Марра.
Он был пьян.
Открытие касалось театрального языка…
— Почему фарс? — восторженно спросил Жаба. — А почему не скукобой? И не спектакль, а созерцины. Смотри, насколько лучше: «Я был на созерцинах!»
Университета он так, кажется, и не кончил. На последнем курсе он вдруг открыл в себе непреодолимую склонность к живописи и бросил лингвистику несмотря на то, что профессора предсказывали ему блестящую научную карьеру. Мне не случалось видеть его картин, но я слыхал стороной, что они были из рук вон плохи. В ТЮЗе он работал макетчиком.