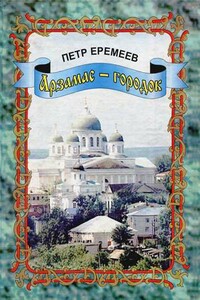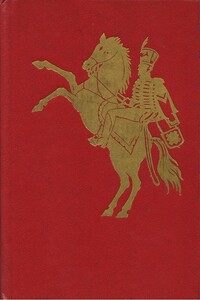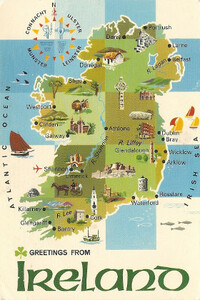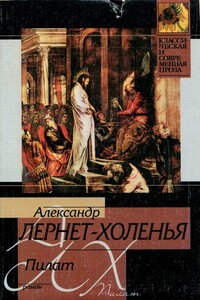Чулымские повести | страница 68
Он бы увидел бежавших от Чулыма, если бы чуть постоял на том же взгорке. Позже не услышал и людских голосов — сильный ветер относил их, а бежали-то парни и девки другой стороной широкой улицы.
Перегорело вроде бы в Кузьме Андреевиче зло. Сколько можно — сутки ярился и изводил себя. Зло уходило, но занозило другое, о чем и думать было непереносно.
«Значит, я пожег их сонных. Дочь пожег! А и прибегут люди — поздно!» — утверждался в ужасной догадке старик, и руки его рвали тугой воротник белой холщовой рубахи.
Секачев света зажигать не стал, не хотел глядеть на неубранный стол с обеда, не хотел видеть себя, а главное ему нужен был совсем другой свет, свет для души его, которая страдала сейчас, как никогда.
Вспыхивали за окном грозовые зарницы… Вспыхивали, кидались по струганым бревенчатым стенам, по широкой лицевине русской печи и тут же гасли в холодной сырости дома, которой дышала высокая пасть распахнутой в сени избяной двери.
Неподвижно сидел на лавке и одно-единственное сознавал: не избыть ему, не заглушить того внутреннего обличительного голоса, той крепнущей уверенности, что совершил он великое злодеяние — во зле собственную дочь жизни лишил!
Как все обернулось… Гордо думал уже, уверился почти, что его-то старость не будет знать злобы. И вот наказан за человеческую гордыню. Такой бедой испытуется!
Принята была вина, и тут же началось бичевальное раскаяние и возмездное судилище.
Кузьма Андреевич никогда не боялся мирского суда. Разве могли вершить над ним суд такие же грешные, кто правопорядчиком только по званию, по наложению на них таковских обязанностей, а не по чистоте душ своих. Не имели права карать его люди, судящие не по духовной совести, а по казенному закону.
Другому, высшему, праведному суду отдается он, Секачев. Перед ним ничего не утайно, перед ним только склонит покорно голову и от него только примет все, что будет определено ему.
Чем больше размывал и терзал старика этот мучительный разговор с самим собой, тем больше он ощущал в себе властный позыв к молению: к тому единственному, что все разрешало и переводило на его земной и загробный путь.
Надо было совершить это моление.
Кузьма Андреевич встал с лавки, прошел в запечье, умылся там, пригладил ладонями концы спутанных седин, потом наглухо застегнул рубаху и только теперь вспомнил, решил, что ему надо много свечей, много света перед иконами.
Он знал, где лежали свечи. Приходила на днях Ефимья и принесла. Он за каким-то делом на крыльце сидел, Семенова там и отдала сверток. В моленную тогда не пошел — разговор мять не хотел — встал и второпях положил свечи в сенях.