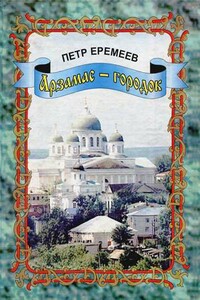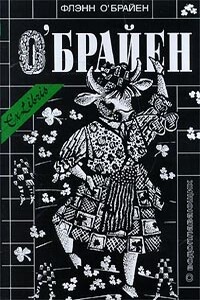Чулымские повести | страница 49
…Звякнуло и раз, и два железное кольцо на калитке. Кузьма Андреевич тяжело встал с крыльца, где сидел, и пошел открывать. Он знал, догадывался — пришла Ефимья Семенова.
Ефимья была не одна, следом за ней в ограду ввалился Сафонтий Шарпанов — высокий могучий старик с пронзительными черными глазами. Пришел он с мешком — давно вызвался заново обрядить в крепкие кожи святые книги и вот, видно, решился, наконец, сделать доброе дело.
В доме гости трижды совершили крестные метания в иконный угол и молча сели на лавку. По тому, как сели, по затянувшемуся молчанию Секачев сразу понял, с чем пришли к нему эти люди, которых он всегда тепло привечал. Чувствуя себя виноватым, Кузьма Андреевич неожиданно потерялся, краснел лицом и суетился с нехорошей стариковской угодливостью.
Не сразу, а все же соблазнил пришедших чаем. Ефимья отнекивалась, но Секачев так просил выпить по единой чашечке травного, что Шарпанов боднул лохматой головой — ставь! — и сам достал лучины для разогрева самовара.
Уже за столом, шмыгая острым носом на желтом плоском лице, Ефимья, наконец-то, начала ожидаемый разговор.
— Тоска тебя гложет, исхудал ты совсем… — сложив губы дудочкой, старуха дула в глубокое блюдце и косовато посматривала на Кузьму Андреевича ленивыми распаренными глазами. — А ведь и нас тоже твое гнетет. И в горести, но и в надежде обретаемся.
Секачев винился лицом, давая смелость в разговоре всегда осторожному Шарпанову. Ровно гудел Сафонтий:
— Ползут по дворам слухи, что Анна твоя с комсомолом вяжется. Это что жа, значит, без наученья она растет-поднимается, а?! Думал ты, Кузьма, куда дочь твоя загинат…
Кузьма Андреевич скорбно покачал головой.
— Как не думал! И разговор у нас был не единожды. Это, знаете, чужу беду руками разведу, а своей-то толку не дам…
— Оно, конешно… — согласилась Ефимья. — Только должон помнить, кто ты такой есть, Куземушка. Не токо осталец святого благочестия, молитвенник наш, заступник! Через это на высоком нашем почете. На тебя, на дочь твою другие постоянно глядят-озираются. Распустишь девку, какой же с других спрос! А нонче тако само время, что отпускать вожжи молодым никак нельзя.
Ефимья медленно отодвинула пустую чашку, вытерла чистым платочком темные губы, улыбнулась до блеска начищенному самовару, но тут же и отяжелела раскрасневшимся лицом. — Знаю, Кузьма! То-то и оно, что много потачек теперь желторотым от властей дадено. Вот и пошли дети на родителев. Сегодня у деток баловство, а завтра — гляди, воровство. Приглядишься, ан детки-то уж и не отцовски. Покуда кормишь сопливых, покуда поднимаешь на ноги — твои, а выросли — не спросят куда и зачем потянут. Охо-хо, до каких времен мы дожили…