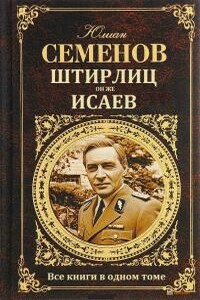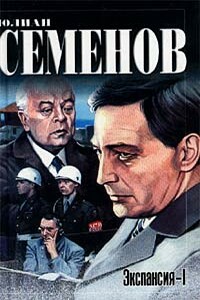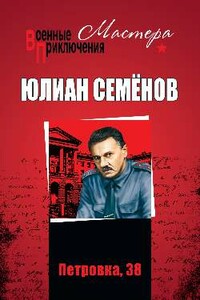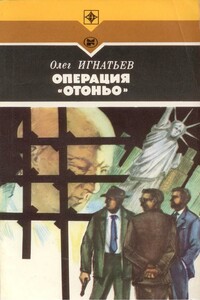Экспансия III | страница 9
Манолетте прищелкнул пальцами:
— Красиво сказано, Максимо!
Как все испанцы, он превыше всего ценил изящество слова; дело есть дело, суетная материя, тогда как фраза, произнесенная прилюдно, таящая в себе знание и многомыслие, останется в памяти навечно.
Ганси шмыгнул острым носом (Штирлицу казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля; воробей, а фанаберится), откашлялся и сказал на ужасающем испанском:
— Простите меня, сеньор Брунн, я был груб, но это из-за холода...
— Да, к нашим холодам не так легко привыкнуть, — сразу же откликнулся Манолетте, достав из шкафа три высоких стакана. — Но с помощью дона Максимо вы здесь быстро освоитесь... Что будете пить?
— Вообще-то я почти не пью, — ответил Ганс, подняв на Штирлица свои маленькие пронзительно-черные глаза, словно бы моля о помощи. — У нас в семье это почиталось грехом...
— Да? — Манолетте удивился. — Вы из семьи гитлеровцев?
Ганси даже оторопел:
— Мы все были против этого чудовища! Как можно?! Мой дедушка — пастор, он ненавидел нацистов! И потом Гитлер не запрещал пить! Наоборот! Просто он сам ничего не пил... Другое дело, он преследовал джазы, потому что это американское, не позволял читать Франса и Золя — евреи. Толстого и Горького — русские, но пить он не возбранял, это неправда...
— А как с прелюбодеянием? — поинтересовался Штирлиц.
— Если вы ариец, это не очень каралось... Другое дело, славянин или еврей... Ну и, конечно, для СС это было закрыто, Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу.
Не врет, отметил Штирлиц, а в глазах испуг, здорово, видимо, его накачал Отто, «орднунг мусс зайн»2, не хами старшим, милок, не надо.
— Выпейте глоток вина, — сказал Штирлиц. — За это от дедушки не попадет...
— От дедушки ни за что не попадет, его убили нацисты, — ответил Ганс и прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнул.
— За его светлую память, — сказал Манолетте. — Нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки...
— Налейте ему розовое — «мендосу», — попросил Штирлиц, — оно очень легкое.
Ганс выпил свой стакан неумело, залпом, видимо, решил быть мужчиной среди мужчин; обстановка к тому располагала — изразцовая печь, завывание вьюги за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склоны гор, красные опоры подъемников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные, в руках — спокойная надежность, в глазах — улыбка и доброта.