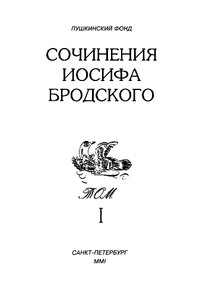Сочинения Иосифа Бродского. Том V | страница 34
На пороге столетия Кавафис достиг этого объективного, хотя и соответственно двусмысленного, бесстрастного звучания, в котором ему предстояло работать следующие тридцать лет. Чувство истории — точней, его читательские вкусы — подчинили его себе и обеспечили маской. Человек есть продукт чтения; поэт — тем более. Кавафис в этом смысле — греческая, римская и византийская (в особенности Пселл[34]) библиотека. В частности, он — собрание документов и подписей, относящихся к греко-римскому периоду, охватывающему последние три века до н. э. и первые четыре после. Именно бесстрастные каденции первых и формальный пафос вторых несут ответственность за возникновение его поэтики — за эту помесь архива и эпитафии. Этот тип дикции, независимо от того, применяется ли он в «исторических» стихотворениях или в стихотворениях сугубо лирического характера, создает странный эффект подлинности, избавляя авторские прозрения и агонию от многословности, накладывая на них отпечаток сдержанности. Стандартные поэтические условности и сентиментальные клише под пером Кавафиса приобретают характер маски и оказываются столь же насыщенными, сколько и его «бедные» эпитеты.
Всегда неприятно очерчивать границы, когда имеешь дело с поэтом, но археология Кили того требует. Кили знакомит нас с Кавафисом приблизительно в то время, когда поэт обрел свой голос и свою тему. Тогда Кавафису было уже за сорок, и он составил себе определенное мнение о многом, в том числе о реальном городе Александрия, в котором он решил остаться. Кили весьма убедителен относительно трудности для Кавафиса такого решения. За исключением шести-семи не связанных между собой стихотворений, «реальный» город не появляется непосредственно в канонических 220 стихотворениях Кавафиса. Первыми выступают «метафорический» и мифический города. Это только доказывает точку зрения Кили, так как утопическая мысль, даже если, как в случае Кавафиса, обращается к прошлому, обычно подразумевает непереносимость настоящего. Чем невзрачней и заброшенней место, тем сильнее желание его оживить. Что удерживает нас от утверждения, что решение Кавафиса остаться в Александрии было, так сказать, типично греческим (повиновение Року, сюда его поместившему; повиновение Паркам), это собственное Кавафиса отвращение к мифологизированию; а со стороны читателя, возможно, также понимание, что всякий выбор есть по существу бегство от свободы.
Другое допустимое объяснение решению Кавафиса остаться состоит в том, что не так уж он нравился сам себе, чтобы полагать себя заслуживающим лучшего. Какими бы ни были причины, его вымышленная Александрия существует столь же живо, как и реальный город. Искусство есть альтернативная форма существования, хотя ударение здесь на «существовании», так как творческий процесс не есть ни бегство от реальности, ни сублимация ее. Во всяком случае, для Кавафиса он не был сублимацией, и его трактовка «чувственного города» в целом — прямое тому доказательство.