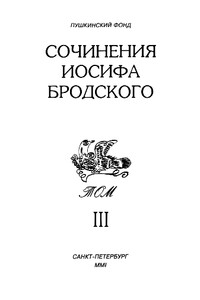Сочинения Иосифа Бродского. Том VI | страница 80
Это мало связано с религиозной или культурной историей Германии и России, совершенно между собой не схожими. Несмотря на всю страстность риторики Лютера, я искренне сомневаюсь, что его по большей части безграмотная аудитория была сильно обеспокоена смыслом его богословских тонкостей; что касается России, то в своей переписке с бежавшим князем Курбским Иван Грозный гордо и чистосердечно провозглашает себя жидом, а Россию Израилем[221]. (В целом же, будь вопросы религии действительно корнем современного антисемитизма, его наиболее уродливое лицо было бы не немецким, а итальянским, испанским или французским.) Поэтому для немецкой революционной мысли — как бы дико она ни металась между изгнанием евреев или их эмансипацией — юридическим итогом 1871 года стала последняя.
То, что произошло с евреями в Третьем рейхе, в первую очередь было связано с созданием совершенно нового государства, нового общественного и экзистенциального порядка. В «Тысячелетнем Рейхе» отчетливо слышались милленаристские настроения, настроения fin-de-siècle[222] — возможно, несколько преждевременно, поскольку siècle шел всего лишь девятнадцатый. Но политический и экономический послевоенный развал Германии был периодом, как нельзя более подходящим, чтобы начать все с нуля. (А история, как мы отметили, не слишком считается с людской хронологией.) Отсюда упор на молодежь, культ юного тела, песни о чистоте расы. Социальный утопизм повенчан с белокурой бестией.
Плодом такого союза стало, естественно, социальное скотство. Ибо ничто не могло быть менее утопичным, чем ортодоксальный — и даже эмансипированный и светский — еврей; и ничто не могло быть менее белокурым. Один из способов построить что-нибудь новое — сравнять с землей старое, и новая Германия была проектом именно такого рода. Атеистический, нацеленный в будущее тысячелетний рейх не мог рассматривать трехтысячелетний иудаизм иначе как помеху и противника. С точки зрения хронологии, этики и эстетики, антисемитизм пришелся как нельзя кстати; цель была больше средств — больше, хочется добавить, мишеней. Целью была история, не больше не меньше, переделывание мира по образу Германии; а средства были политические. По-видимому, их конкретность, как и конкретность их мишеней, делала цель менее абстрактной. Для идеи привлекательность жертвы состоит в том, что жертва помогает идее обрести смертные черты.
Вопрос, почему они не бежали? Они не бежали, во-первых, потому, что дилемма — исход или ассимиляция — была не новой, и совсем недавно, всего за несколько поколений до этого, в 1871 году, она казалась решенной законами о равноправии. Во-вторых, потому, что еще действовала конституция Веймарской республики, и воздух ее свобод еще наполнял их легкие, равно как и их карманы. В-третьих, потому, что на нацистов в это время смотрели как на объяснимое неудобство, как на партию реконструкции, а на их вспышки антисемитизма — как на побочный продукт трудностей этой реконструкции, напряжения сил. Как-никак они были национал-социалистической рабочей партией, и когтящий свастику орел мог представляться временным заместителем Феникса. Любой из этих трех причин, взятой отдельно, было бы достаточно для того, чтобы не покидать своих жилищ; но инерция ассимиляции, интеграции смешала их все воедино. Основная идея, я полагаю, состояла в том, чтобы сбиться в кучу и ждать, пока не пройдет гроза.