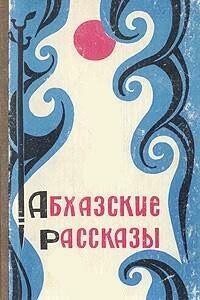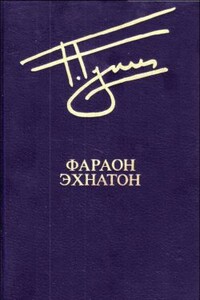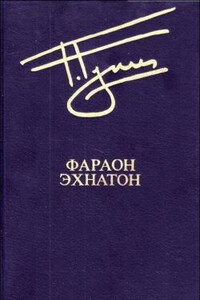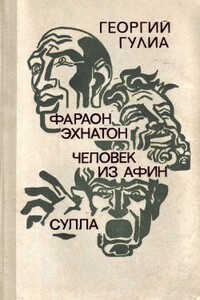Дмитрий Гулиа | страница 52
«Они обсуждают каждое наше движение, каждый жест», — думает Леля, и ей становится очень весело…
А осенью 1911 года (11 октября) они поженились. Во дворе отца Елены Андреевны были накрыты столы. Играл военный оркестр. Гостей была уйма. Вино, что называется, лилось рекой. Андрей Иванович ничего не пожалел, лишь бы в грязь лицом не ударить.
Венчание происходило в городском соборе. Было много людей и много бенгальского огня.
— Огни над головами, огни под ногами, — говорит Елена Андреевна, вспоминая тот день…
Гулиа вместе с женой уехал в Тифлис. Это было в 1912 году. Скоро он возьмет в руки свою первую книжку стихов на абхазском языке. И все-таки он сможет написать с полным основанием: «…я не имел возможности развивать свою работу; кроме препятствий — поддержки ни от кого не получал. Поэтому моя работа шла очень медленно».
Пушкин и Байрон умерли примерно в одном возрасте: тридцати шести — тридцати семи лет. Гулиа в этом возрасте только начинал осмысленную во всех отношениях литературную деятельность. Чтобы писать стихи, ему пришлось создавать «Букварь», закладывать фундамент для абхазских школ и всеми силами защищать своих соотечественников от произвола властей. Не слишком ли велика нагрузка для одного литератора?
В 1912 году появляются на свет «Стихотворения» Гулиа, а через год — небольшая книжечка «Любовное письмо». Литература есть непрерывный процесс. Но она где-то берет свое начало. И этим началом может быть только и только жизнеспособный родник, могущий создавать русло, не уходящий куда-нибудь в песок.
Эти две книжки обладали всеми необходимыми задатками, чтобы дать начало настоящей литературе. Во-первых, это были зрелые книжки, они стали оружием в борьбе умов. А это уже больше чем поддела. Во-вторых, они явили прекрасную форму, и читатель был изумлен ее разнообразием. Шалва Инал-ипа пишет о сборнике «Стихотворения»: «Это небольшая книжка является провозвестницей рождения абхазской художественной литературы и одновременно первым серьезным шагом на пути создания литературного языка».
Главной отрицательной и зловещей социальной фигурой в то время в Абхазии был князь-кровопийца. В собирательном смысле кровопийца — это и князь, и царь, и фабрикант… Они действительно пили кровь народную, и другого, более точного слова, чем «кровопийца», не придумаешь. Значит, если ты литератор и уважаешь себя и свое дело, которому служишь верой и правдой, наноси удар в главном. Иначе твое творчество будет походить больше на ласточкино щебетание, нежели на серьезный разговор. Неспроста писал Гулиа: «Стихийно возникший во мне протест против насилий князей и дворян я выражал в своих стихах, которые издавал на свои средства и бесплатно распространял среди крестьян». (Мы, его дети, долгое время оберегали эти книги от мышей и сырости, чистили их, сушили на солнце, ибо «распространялась» книга медленно. Гулиа в своих стихах писал: «Я весь тираж на этой вот на собственной спине снес в дом. И ждал, когда зайдет случайный гость ко мне… Книгу для него несу из кладовой. Там сырость с книжечек моих мое стирала имя, и мыши, обнаружив их, одни питались ими…»)