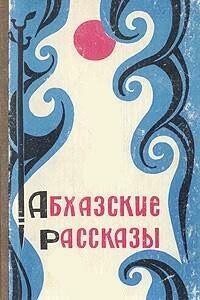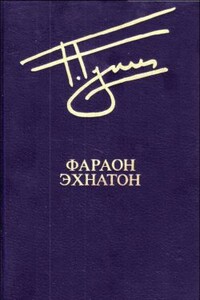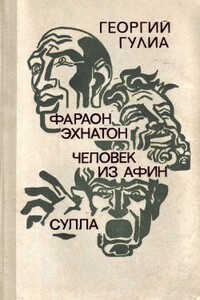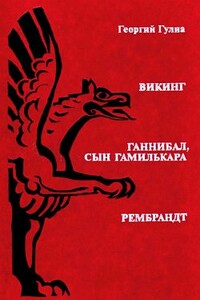Дмитрий Гулиа | страница 119
В 1934 году был издан «Сборник избранных произведений» Дмитрия Гулиа. Эта книга как бы подытожила его многолетнюю литературную работу. По ней можно было видеть и легко определить самое главное в его творчестве: поддержку всего нового! В том же году вышла книжка веселых песенок Гулиа, которые исполнялись крестьянами на всеабхазском народном гулянье в селе Лыхны 1 Мая 1934 года. Одновременно он занимается переводами с русского, грузинского, украинского, осетинского.
В первой половине тридцатых годов на небе абхазской литературы загорелись еще две звезды: Леварсан Квициниа и Леонтий Лабахуа. Если до конца следовать этому образу, то смело можно сказать, что это были звезды первой величины. К такому заключению неизбежно придет любой исследователь их творчества. Но ни один, ни другой не смог завершить своего труда, они погибли: первый — на войне, второй — дома, как жертва 1937 года. Шалва Инал-ипа пишет: «Замечательному абхазскому поэту Л. Квициниа принадлежит большое количество стихов и… поэмы «Шаризан» (1933 г.) и «Даур» (1936 г.)». Квициниа родился в селе Атара, недалеко от Очемчир, в 1911 году. Я познакомился с ним, когда ему было года двадцать два. Он был скромным человеком. Рыжеватый, с голубыми глазами. Мало говорил, больше писал. Однако когда дело доходило до стихов, в нем пробуждалось дотоле, казалось, дремавшая страстность, голос обретал звучание металла, руки сжимались в кулаки. И тогда каждому становилось ясно, что перед ним поэт божией милостью. Из крестьянского парнишки Квициниа превратился в образованного человека с широким кругозором. Он учился в Москве, в Литературном институте. Окончив его, работал в Сухуме, а позже был избран руководителем Союза писателей Абхазии.
Он, пожалуй, первым ввел в абхазскую поэзию точные размеры ритма и строгую рифму, рядом с которой ассонансы, даже более или менее четкие, казались несовершенным приближением к идеалу. Он был до крайности трудолюбив и не скоро выпускал из рук новые стихи — долго шлифовал их, выверял на слух.
Он женился в 1939 году, а сына своего впервые увидел на далекой западной границе нашего государства — в Белоруссии: Квициниа служил в армии в Цехановце. На рассвете 22 июня 1941 года он, возможно, был одним из первых, кто услышал раскаты войны. По-видимому, в тот же день и погиб.
Встречаясь с Квициниа, мы часто делились с ним мыслями о судьбе Лабахуа. Никто не понимал, что случилось. Официально объяснили, что Лабахуа, будучи преподавателем, якобы ухаживал за одной из учениц.