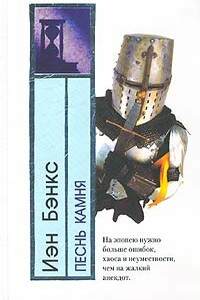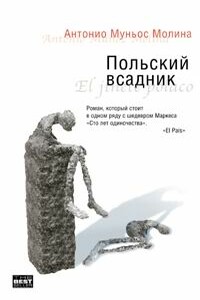Вьетнамские каникулы. Необязательная встреча | страница 19
– А пранкеры это те, кто разыгрывает известных людей по телефону?
– Да.
– Ну а если попробовать пробиться самому? Через интернет?
– Пробовал. Проблема та же – деньги. Если ты хочешь, чтоб тебя заметили, нужно быть на первой полосе раскрученных сайтов, а за это нужно платить. Все рассказы о том, что можно вылезти из социальных сетей – чушь. На этих ярмарках тщеславия люди ничего не читают, и читать не будут.
– Ну неправда. Кто-то ж вылезает? Новые имена появляются, книги выходят, – засомневался Эрик.
– Хорошо, Эрик! Какая твоя любимая книга?
– «Территория» Олега Михайловича Куваева.
– Отличная книга, но это 1975 год. А что ты последнее прочитал?
– «Тонкости интерпретации сейсмических данных». На художественную литературу времени совершенно нет. Много работы.
– Вот видите. И это начитанный Эрик! А что говорить о других? Да и потом, мне кажется разговоры о том, что Россия «самая читающая» слишком преувеличены. Официально мы на третьем месте после Китая и Испании, но я очень сомневаюсь, что это реальные цифры. Хотя если из китайского миллиарда каждый сотый читающий, то это уже огромная цифра. В России наверно статистика такая же – каждый сотый. Даже близкие люди мою писанину не захотели читать. Единственная надежда на развитие аудио книг. Может в этой форме литература начнет свою новую жизнь.
– Ну вы не расстраивайтесь: «Мы слишком многого хотим от людей, это всего лишь люди!» – произнес отец Александр, пытаясь успокоить мою «больную мозоль».
– Ладно. О Чуде. – выдохнул я и продолжил. – Учась в институте, я задружился с преподавателем, читавшим научный коммунизм. Любая его лекция начиналась традиционным пятиминутным бубнежом об исторической роли партии, но после короткой «обязаловки», речь заходила о Вере. Причем русло реки познания так изящно уводилось в сторону, что оставалось только удивляться.
– Это как? – удивился отец Александр.
– Например, бралась тема социального неравенства. Совершая экскурс в историю, преподаватель приводил примеры первых попыток средневекового коммунизма, построенных на основе христианской идеологии. Как бы случайно рассказывалось о радикальном крыле францисканцев, которые предлагали исключить накопления и сделать имущество общим. Дальше шло повествование о том, кто такие францисканцы, и что они хотели. С помощью таких не хитрых исторических мостиков, любое обсуждение заветов компартии можно было перевести в плоскость Христианства. Обсуждение «от каждого по способностям, каждому по труду», заканчивались притчей «о талантах», «кто не работает, тот не ест» – наказами апостолам («ибо трудящийся достоин пропитания»). В 1989 году научный коммунизм убрали и заменили на античную философию. С этого момента наши занятия превратились в лекции-проповеди на Христианскую тему. Уж не знаю почему, но меня жутко тянуло к этому образованному, никогда неунывающему человеку. Что-то в нем было определенно притягательное и располагающее. Нескладно-маленький, рыжий, с большим ртом и выпученными глазами, во время лекции он преображался до античного оратора красавца. Он горел идеей донести до нас слово Божье. Я не мог оторвать от него глаз. Будучи кандидатом исторических наук, он сделал вывод, что Бог – есть Истина, а жить нужно по Христианским канонам. Именно тогда я первый раз отметил, что настоящая образованность не отталкивает человека от Веры, а притягивает. Раскрыв рот, я слушал о том, как Спаситель умер на кресте, а потом Воскрес, а не потерял сознание, как это утверждали атеисты-скептики. Почему ученики вначале разбежались и физически не могли выкрасть тело Христа, а потом пошли на смерть за Веру. Причем объяснял он всё простым понятным языком.