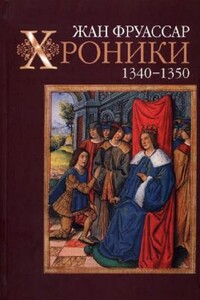Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 46
2. Меня влекли к себе зрелища в театре, где все изображало мои несчастья и раздувало жегший меня огонь. Почему там человек охотно мучается, глядя на печальные и трагические события? Сами они для него не желанны, а вот боль от них желанна и сама боль для зрителя — наслаждение. Не жалкое ли это безумство? Ведь чем понятнее человеку такие чувства, тем сильнее они волнуют его, хотя если страдает он сам, зовут это бедой, а если состраждет другим — называют милосердием. Но какое тут милосердие, когда события выдуманы и происходят на сцене? Слушателя приглашают здесь не на помощь спешить, а лишь скорбеть, и чем сильнее он скорбит, тем больший успех встречает творца этих картин. Когда бедствия, очень давние или вымышленные, показаны на сцене так, что их вид никого не огорчает, то автор, бранясь с досады, уходит из театра, а если зритель печален, то автор радуется и смотрит представление до конца[68]. Стало быть, слезы и страдания услаждают? Радоваться, конечно, хочет всякий, несчастным же быть никому не мило, но приятно быть сострадательным, что невозможно, однако, без скорби. Не поэтому ли мы и любим скорбь? Производит это живущая в нас жизненная сила дружбы.
Куда, однако, это ведет? По какому пути? Не поглощается ли здесь сострадание потоком кипящей смолы — пылающим жаром театральных страстей, в котором оно меняется, извращается по доброй воле, отторгшись и отпав от небесного света? Так что же, из-за этого надо отвергнуть сострадание? Вовсе нет! Пусть и скорби иногда будут нам приятны. Но бойся нечистоты, душа моя, имея покровителем «Бога моего, Бога отцов наших, славимого и превозносимого во все века»[69].
Мне и сейчас знакомо сострадание, но тогда, в театрах, я сочувствовал восторгу влюбленных, радовался их непристойным радостям, хотя это была только актерская игра и выдумка. Когда влюбленные разлучались, я из жалости к ним грустил, и мне была приятна эта печаль. Теперь же я больше болезную о том, кто весел, утопая в пороке, чем о человеке, который, словно это беда какая-то, лишился гибельных утех и потерял свое ничтожное счастье. Вот такое сострадание более истинно, но оно не услаждает скорбью. Милосердие велит печалиться о несчастье, и это похвально, но человек вдвойне милостивый предпочитает вовсе не иметь причин для горя. Если бы существовало зложелательное доброжелательство, совершенно невозможное, то тому, кто способен на искреннее, глубокое соболезнование, могло бы захотеться, чтобы всегда были страдальцы и ему было бы кого жалеть. Поэтому похвальна бывает иногда скорбь, но она никогда не должна быть любима. Боже и господи, ты один любишь наши души сильнее и чище, чем мы сами, и жалеешь их без лукавства, не причастный печали. Но на это кто способен?