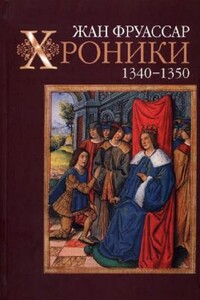Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 45
13. Что за причина была, отчего я ненавидел греческие уроки, я и сейчас не совсем понимаю. Латинские я очень любил, но не те, которые ведут самые первые учителя, а занятия с «грамматиками»[64]. Ведь учиться читать, писать и считать было для меня столь же тяжело и неприятно, как и сам греческий язык. Иным ли чем это было вызвано, как не грехом и суетою жизни? Был я тогда «плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается»[65]. Ведь те начальные знания достоверны. Благодаря им я теперь могу прочесть то, что вижу написанным, могу и сам написать любую вещь. И поэтому они лучше тех занятий, при которых я должен был, забыв о своих заблуждениях, помнить о блужданиях неведомого мне Энея и оплакивать смерть Дидоны за то, что она убила себя из-за любви[66]. Свою же собственную смерть вдали от тебя, Боже, жизнь моя, я, несчастный, переносил с сухими глазами...
Итак, согрешил я мальчиком, предпочитая пользе пустяки, это любя, а то ненавидя. Ненавистен был мне припев: «Один да один — два, два да два — четыре», нравилось же больше всего суетное зрелище — деревянный конь, полный вооруженных воинов, пожар Трои и самой Креусы тень[67].
[ЮНОСТЬ. ГОДЫ УЧЕНИЯ В РИТОРСКОЙ ШКОЛЕ В КАРФАГЕНЕ]
III, 1. Я прибыл в Карфаген, и там все вокруг стало звать меня к утехам постыдной любви. Я еще не любил, но любовь мне нравилась, и в затаенном желании своем я ненавидел себя за недостаток желаний. Любя любовь, я искал предмета любви и ненавидел безопасный и открытый путь, потому что внутри меня жил голод внутренней пищи, тебя самого, Боже мой, но я не терзался от этого голода и не алкал пищи нетленной, не потому что был сыт ею, а потому, что был слишком пуст, слишком мерзок. Больна была душа моя. Покрытая струпьями, она устремлялась к внешнему миру, желая соскоблить свои струпья чувственными предметами. А они, если бы не имели души, не вызывали бы любви к себе. Любить и быть любимым приятно было мне, особенно если я наслаждался и телом любимого человека.
Естественное свойство дружбы я пятнал грязью страсти, на чистоту ее наводил тень из Тартара похоти, а сам в избытке тщеславия кичился своей благовоспитанностью и остроумием, гнусный и бесчестный. Я ввергся, наконец, в любовь, которой хотел предаться. Боже мой, спасение мое, сколько желчи примешал ты к этой сладости во благо мне! Я был любим, связь была скреплена наслаждением, но в этой радости меня опутывали сети бедствий: будто розги каленого железа, секли меня зависть, подозрения, страхи, гнев и ссоры.