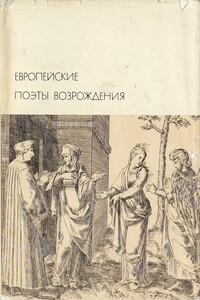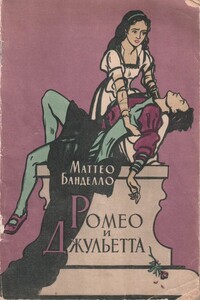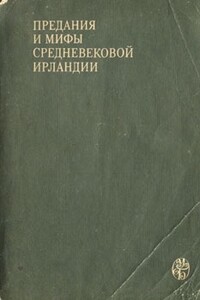Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 40
Школа, которую так резко осудил Августин в «Исповеди» и в которой сам он провел долгие годы как ученик и как наставник, была носительчицей почти тысячелетних традиций гуманитарного, филологического образования в греко-римском мире. Она воспитывала в своих питомцах словесную виртуозность (блестящее владение литературной речью), тренировала их ум на запоминание множества диковинных подробностей, внушала преклонение перед древними классиками. Ее учебным материалом служили главным образом тексты Гомера и Вергилия, Горация, Теренция и Цицерона, о чем мы можем судить по дошедшим до нас от IV—V вв. «Сатурналиям» Макробия и комментариям Доната и Сервия. Эстетское любование словом сочеталось здесь с утилитарным отношением к тексту, в котором видели источник всевозможных практических сведений, а не художественную условность. Разрыв Августина с этой традицией был бегством от тесноты сложившихся авторитетов, от безнадежности скептицизма. И он был исторически неизбежен в преддверии новой эпохи. Упреки, которые бросал Августин поэзии, говоря о безнравственности и недостоверности сообщаемых ею данных, были не новы. Они были общим местом христианской патристики и были заимствованы ею у Платона.
В противовес эллинско-римской классике христианство предлагало свой текст, чтением и комментированием которого оно занималось. Этим новым по содержанию и по художественной форме текстом была Библия. Как показывают широко распространенные в IV в. толкования на Шестоднев, на книги псалмов, пророков, апостольских посланий, и т. п., в библейской критике применялись разработанные в древности приемы грамматических и аллегорических объяснений. Существовали даже особые школы (в Александрии, Антиохии, Нисибии), где обучались чтению Библии. Такие школы, однако, были только на Востоке, в Западной же империи их не было, и Августин здесь первый взял на себя задачу осмыслить и описать принципы и методы толкования Библии. По мере того, как книги Ветхого и Нового Заветов входили в духовную жизнь различных народов, их интерпретация становилась все более «многослойной», многозначной, не буквальной. Чтобы оправдать подобный подход к ним, Августин в сочинении «О христианской науке» разработал специальную теорию иносказания, положив в основу ее стоическое учение о знаковых свойствах языка.
Подобно тому, как софисты V в. до н. э., открывшие знаковые качества речи, превратили ее в источник эмоциональной услады слуха, Августин в V в. н. э. сделал словесные образы источником интеллектуального наслаждения. Если софисты, обнаружив способность языка по-разному изображать один и тот же предмет, приходили к выводу, что «человек есть мера всех вещей» и стремились использовать речь как орудие субъективного убеждения, для чего всячески совершенствовали ее технику, то Августин, заведомо признавая мерой всех вещей не человека, а объективную, не зависимую от него истину, смотрел на библейский текст как на зашифрованную информацию об этой истине и главную цель толкования видел в том, чтобы выявить ее сквозь различные покровы иносказания. Он дал подробную классификацию знаков, встречающихся в природе и человеческой деятельности, и одной из их разновидностей признал словесную речь. И именно характер слов-знаков сделал критерием ценности языческих и христианских текстов, заявив, что в первых заключены бесполезные знаки, не помогающие найти истину, а вторые содержат знаки полезные, раскрывающие подлинный серьезный смысл произведения.