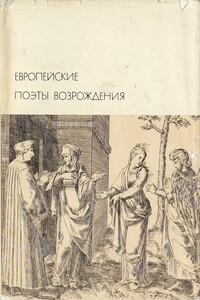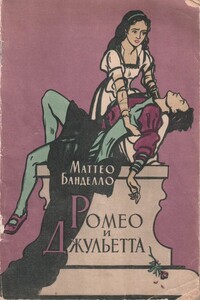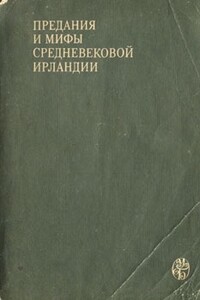Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 39
На рубеже IV—V вв. н. э., когда варварское нашествие грозило гибелью римской культуре, новозаветная тема «нового» человека приобретала особую актуальность, и в творчестве Августина она получила свое раскрытие в трех его важнейших произведениях — «Исповеди» в 13 книгах (400 г.), «О христианской науке» в 4 книгах (397—426 гг.) и «О граде божием» в 22 книгах (410—428 гг.), в которых дается новое понимание человека, предлагаются новые духовные ценности и строится новая картина мира.
Избранная Августином художественная форма «Исповеди» напоминала о бытовавшем в IV в. обычае публичного, всенародного покаяния и сама по себе уже предполагала самоанализ, самоосуждение, столкновение старого и нового. У Августина она стала формой рассказа о прожитой жизни, формой оценки этой жизни. В жанр античной автобиографии августиновская «Исповедь» внесла и новый взгляд на человека, и своеобразные приемы его изображения, поместив своего героя сразу в три измерения. Наряду с внешними событиями и поступками она раскрыла движение его воли, а затем и то и другое поместила как самостоятельную часть в общую систему вечного миропорядка, где любая кажущаяся случайность находит свое оправдание и назначение.
Для соединения этих трех планов в единое целое та классическая латинская словесность, на которой воспитан был Августин, не давала ему достаточно экспрессивных средств. И он нашел эти средства в Библии, в религиозной поэзии псалмов. «Исповедь» превратилась в молитву, в «жертву хвалы». Благодаря лирическим строкам псалмов, щедро рассыпанным по всей «Исповеди», в голосе героя зазвучала торжественно интимная интонация, он как бы вступил в задушевное общение с тем вечным благим миропорядком, который управляет его существованием. Язык библейских образов помог Августину описать собственную жизнь как детерминированный процесс, полный смысла, хотя и не осмысленный в начале, как победу всесильного добра и одновременно как разоблачение тончайших психологических изгибов зла. И в этом описании главное место занял поворотный период ломки мировоззрения, «обращения» к христианству (VIII книга).
Мотив «обращения» был довольно обычным литературным приемом и у языческих и у христианских авторов: мы встречаемся с ним и в кинико-стоической легенде о Диогене («письма» Диогена, речи Диона Хрисостома), и в апостольских посланиях («Обращение» Павла), и в житиях, однако нигде не играл он такой композиционной роли, как в «Исповеди» Августина. Более ранние, гораздо более спокойные описания этого периода у того же Августина позволяют оценить все нарочитое мастерство созданной им в «Исповеди» картины, где «обращение» показано как потрясающий по своему драматизму конфликт воли, как перестраивание всей внутренней структуры личности. События жизни до «обращения» описаны как подготовка к этому кульминационному моменту, жизнь после «обращения» — как раскрытие его смысла и значения. Этим объясняется и диспропорция разных хронологических отрезков рассказа и тон подчеркнутого самобичевания, которым Августин говорит о своих былых привычках, светских развлечениях и занятиях в языческой школе.