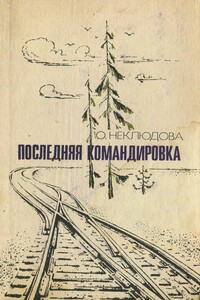Электрический балет | страница 7
Варшавский поднимает руки.
– Да, я виновен! Виновен, признаю. Наш театр сопротивляется… сопротивлялся до последнего. Я заделывал самые узкие щели, чтобы ничто из Нового мира не проникло в его стены. Я закупорил наш театр, наш храм искусства, как закупоривает бутылку с посланием потерпевший кораблекрушение, – на этом месте Мара все-таки не может сдержаться и закатывает глаза. – Я думал, что сохраняю в бутылке историю, но, как оказалось, там было только одно слово. «Спасите».
Варшавский понижает голос:
– И я был спасен.
Он смотрит на меня.
– Новый мир пришел.
Все смотрят на меня.
– И за Новым миром придут новые зрители.
Когтистые лапки, я слышу, как они скребут по мне, громче и громче, царапают по обнаженной коже. Варшавский приглашающим жестом указывает мне на середину зала.
– Жизель. Второй акт. Вариация.
Расступаются.
Шаг, второй. Музыка. Еще шаг. Из наклона в арабеску, вращение. Прыжок. Разворот. Застыть. Мимолетная поза, нога прямая. Глиссад, ассамбле в сторону. Слова рассыпаются, бесполезные, бессмысленные. Кости – в прах. Плоть – в прах. Геометрия, голая, бесстыдная, нежная. Ноги чертят в воздухе линии, параллели, перпендикуляры. Острые углы, прямые углы. Спираль, смена плоскости. Прыжок, еще прыжок. Невесомый, бесплотный, бескостный. Как бы не ударится головой о потолок. Какого черта они такие низкие. Прыжок, еще прыжок. Кости – в прах. Плоть – в прах. Прыжок, прыжок. Точно в такт, не сбиваясь, не опаздывая. Кручу, кручу…
Останавливаюсь.
Дышу.
Никто не шевелится, и на мгновение кажется будто фигуры, неживые, нездешние, мастерски выписаны маслом на заднике к чужому спектаклю. Первой оживает Мара, и ее прокуренный голос звучит в тишине неожиданно громко:
– Черт возьми, Лия! Да ты крутишься как… как миксер!
Другие голоса оживают следом, подхватывают слова, обступают меня со всех сторон, и я чувствую жар от невидимых факелов в их руках, невидимых, но пылающих так ярко, что больно глазам.
Перед тем как шагнуть за дверь зала для репетиций номер шесть, Варшавский оборачивается и кидает, как кость своре голодных псов, последнюю фразу:
– Ах да, чуть не забыл! Закажи в костюмерной юбку покороче.
VI
Улыбка была неожиданной, неуместной. Лия подумала, что ослышалась. Жестокая шутка. Если продолжать тихонечко лежать на больничной койке, закрыв глаза, то они отстанут, уйдут.
Они сказали не «ходить», они сказали «танцевать». Если бы они сказали «ходить», Лия, может быть, и посмеялась бы вместе с ними, может быть, так принято, может быть, это часть терапии. Может быть, смех убивает жалость к себе, может быть, здесь просто работают садисты… Но они сказали «танцевать». Они сказали то, о чем нельзя упоминать всуе, и слезы, все эти дни колыхавшиеся где-то на подступе к глазам, сорвались, наконец, и все текли, текли, текли.