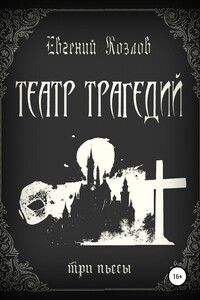Ангел Аспида | страница 44
Подкидыш, безусловно, вырос, но крупнее телосложением не стал, растительность на лице его не появлялась, а вот волосы стали куда длиннее и гуще, отчего с постоянством он завязывал локоны в хвост, расправляя челку на две тонкие игривые пряди, свисающие ниже груди. Франтом себя нисколько не почитал, скорее, походил на вольного художника в расцвете лет, коим и являлся, пополняя свою палитру не красками, но душами. Внутренне в нем начало нарастать нечто драматичное и пустое, годы пролетели незаметно, а он так ничего и не совершил.
Безразличная холодность Хлои взывала в нем протест, раздражение, столь удушающее, что он будто задыхался, ее ледяные ручки невидимо сжимали его шею, и словно шептали порами кожи – умри, ты мне всё равно не нужен, умри, без меня, зачем тебе жить. Но Аспид, ощущая в себе законнорожденное превосходство над любым человеком, непреложное, даже божественное, не был готов к поражению. Потому он решает посягнуть на привязанность старшей дочери барона, дабы Хлоя возревновала, и в ревности прочувствовала как ценно его внимание, как бесценно дорог его взор. Посему незамедлительно он принялся за осуществление своего коварного замысла.
В глубине своей души Аспид всегда осознавал, что поступает нестандартно, а безумцы по своему безумному обыкновению либо созидают, либо разрушают, третьего исхода им не дано, их часто клонит к уничтожению, в первую очередь себя как личности. Творцы подверженные порокам умирают в грязи своих душ, и на последнем издыхании рождают нечто прокаженное, но чаще низменное, которое внешне очистит творца, но не его душу, благочестивые же творцы создают великое, девственно чистую красоту, но их спешат очернить. В этой смуте, в смирительной рубашке бьется об мягкие стены карцера усмиренное искусство, мечтая силой воображения растворить те властные преграды академической ограниченности или свободной вульгарности современных бессмысленных течений, в коих нет и доли прекрасного. Творец лишь тот, кто создает красоту. Красоту понятную всем, ту от которой вострепещет любая душа, ту в которой нет уродства и порока, красоту, которая осязаема сердцем с первого взгляда. Красота подобна истинной бессмертной любви, которая не рождается и не умирает, но живет вечно.
В силу своего возраста, Джорджиана, а на тот год ей уже шел двадцать седьмой год, не привлекала Аспида, однако оба свято чтили девство, располагали незапятнанной девственностью, как впрочем, и все девушки, проживающие в пределах поместья. Хотя на счет Олафа ходили в народе разные слухи, где клевета, а где, правда, было трудно распознать, поговаривали, будто сам барон однажды сводил сына в местный бордель для приобретения некоего опыта. И Олаф побывав в блудном вертепе стал с того падшего мгновения еще более тупее и задиристее, что весьма похоже на правду, ведь когда человек теряет сокровище, он сильно злится, злится на людей, укоряя их во лжи, затем считает всех людей злодейскими ворами, и в глубине своей души ненавидит себя за неосмотрительность, за то, что проявил слабость и утратил столь бесценное богатство плоти и души. Или же такой человек начинает говорить – будто ничего не изменилось, ибо он просто перестает замечать, как блуд проник в его речь, в его мысли, в его чтение, в его творчество, в его личную жизнь и общественную, как цинично он теперь относится к себе и к миру, как закрывает глаза на добродетели и святость, и это весьма значительные перемены, которые видны лишь тому, кто сохранил свою честь неоскверненной, например, целомудренному Аспиду. Но пока что падший наследник не волновал Аспида, он явился в комнату сестры. А та сидела возле окна, читала, вышивала. Брюнетка с потухающим взором, в домашнем платье, походила на олицетворение верности и самоуничижения, являла трогательную печаль и ускользающую надежду. Аспид строго подоспел к ней, поклонившись, встал, облокотившись плечом о стену, обклеенную матовой узорчатой бумагой, привезенной из-за границы, возле подоконника тусклого окна, и начал говорить. И речь его была сладкой, ванильной.