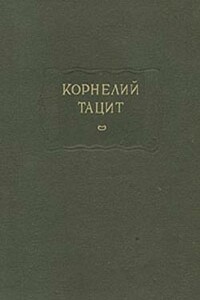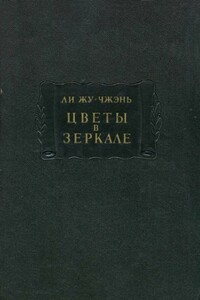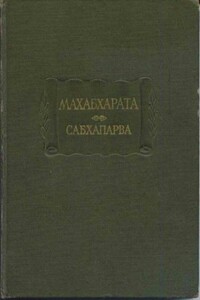доиграется до того, что, спустившись с подмостков, пожелает начальствовать над товарищами и вообразит себя самодержцем, что ты о нем скажешь? Наверняка скажешь, что ему надобно принять чемерицы и других снадобий для очищения рассудка. А тут подлинный самодержец, обратясь к лицедейству и художеству, изощряет голос, трепещет перед элидянами и дельфийцами, а если и не трепещет, то, во всяком случае, столь низко ценит собственное искусство, что опасается, как бы не высекли его те, над кем поставлен он владыкою! Что ты скажешь о горемыках, коим приходится жить под таким вот мерзавцем? Ну что, по-твоему, Менипп, могут думать о нем эллины? «Ксеркс нас жег — Нерон нам поет», — вот что они думают! Ты только вообрази, в какие расходы входят они из-за этих его песен, и как гонят их вон из их жилищ, не дозволяя даже присмотреть, чтобы добро не раскрали и рабы не разбежались! Ты вспомни о женщинах и детях, коих по слову Неронову выволакивают из домов ради бесстыжей его прихоти! Ты подумай, какие начнутся казни — о прочих поводах я уж не говорю — из-за всех этих песен и представлений: «Ты не пошел слушать Нерона!» или «Ты присутствовал, но слушал без внимания!» или «Ты засмеялся!» или «Ты не рукоплескал!» или, наконец, «Ты не приносил жертвы за его голос, дабы явился он еще звучнее на Пифийских ристаниях! Ты видишь? Для эллинов приготовлены многие Илиады зрелищ! Например, я давно уже предсказал по божественному вдохновению, что Истм будет и не будет перекопан — а теперь, по слухам, его как раз и взялись перекапывать». Тут Дамид прервал Аполлония, воскликнув: «А вот по-моему, Аполлоний, предприятие с каналом затмит все, что сделал Нерон, — ты и сам видишь, сколь велик этот замысел!» — «Я согласен, — отвечал Аполлоний, — однако и тут, Дамид, Нерона опозорит его же бестолковость: как неспособен он спеть песню, так неспособен и вырыть яму. Рассуждая о делах Ксеркса, я хвалю его не за то, что выстроил он мост через Геллеспонт
[197], но за то, что переправился по этому мосту, а Нерона я пока не вижу ни плывущим сквозь Истм, ни даже докапывающим свой канал до конца, и думается мне, ежели есть еще правда на свете, что он в страхе удерет от Эллады!»
и еще о том, как прослышали на Западе о Нероновых победах, и как напугал заезжий лицедей местных обывателей(8—9)
8. А несколько позже примчался в Гадиру спешный гонец с приказом приносить благодарственные жертвы за добрую весть и славить Нерона, трижды победившего в Олимпии. Жители Гадиры понимали, о какой победе идет речь, ибо знали о некоем знаменитом Аркадском состязании — как я уже говорил, они привержены эллинским обычаям, — но в соседних с Гадирой городах никто понятия не имел ни об Олимпийских играх, ни о ристаниях и ристалищах, и поэтому горожане, не ведая, зачем приносят жертву, строили на сей счет смехотворные предположения, воображая, будто Нерон одержал военную победу и полонил каких-то людей, именуемых олимпийцами, — ведь на трагедиях или кифаредиях им тоже ни разу не довелось побывать.