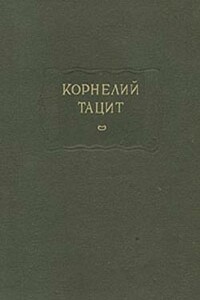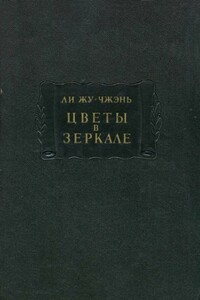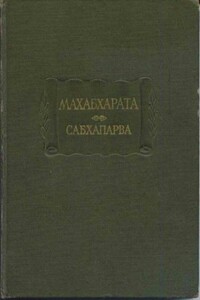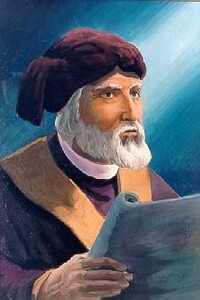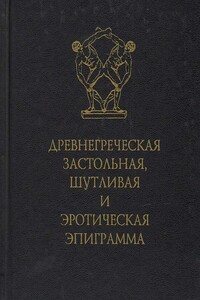Жизнь Аполлония Тианского | страница 20
32. Затем он удалился, дабы не приобщаться к кровавому жертвоприношению, но по окончании оного воротился и вновь заговорил с царем: «Вполне ли ты, государь, владеешь греческим языком, или знаешь его лишь настолько, чтобы уметь объясняться и не показаться неучтивым, ежели явится к тебе в гости эллин?» «Я вполне владею греческим языком, равно как и местным, — ответил царь, — а потому говори, что хочешь — по всей видимости, именно ради этого ты и задал такой вопрос». — «Да, ради этого, а стало быть слушай. Главная цель моего путешествия — посещение индусов, однако и вашу страну не хотел я обходить, ибо был наслышан о тебе, а ныне вижу, что ты и вправду таков вплоть до ногтей. Притом надобно мне познать премудрость, изощренную в этих краях попечением магов, ежели они и впрямь столь сведущи в божественных предметах, как о них рассказывают. Для меня же вся мудрость — от Пифагора Самосского, ибо от него научился я почитать богов, как видел ты давеча, от него же научился я знанию о божествах видимых и невидимых, от него и мой дар беседовать с богами, от него и эта моя одежда, сотканная из земной шерсти, не состриженной с овцы, но чистой и невиннорожденной, ибо она — дар земли и воды, а имя ей — лен. И волосы я не стригу по завету Пифагорову, и от животной пищи воздерживаюсь, наставленный его мудростью. Поэтому в пирах, праздности или роскошестве не сумел бы я сделаться товарищем ни тебе, ни кому другому, однако сумел бы помочь в разрешении неразрешимых вопросов и тягостных сомнений, ибо ведомо мне не только должное, но и грядущее». Вот так, по словам Дамида, говорил Аполлоний, который изложил это же самое в собственноручном послании, — да и многое другое, высказанное прежде в беседах, впоследствии запечатлел он в письмах.
и как отвращал Аполлоний Дамида от сребролюбия(33—34)
33. Царь отвечал, что рад и счастлив приходу Аполлония больше, чем если бы присоединил к своим владениям Индию и Персию, а затем, назвав Аполлония своим гостем, пригласил его поселиться во дворце. Однако тот возразил: «А если бы ты, государь, явился ко мне на родину в Тиану, и я пригласил бы тебя поселиться в моем доме, охотно ли ты последовал бы моему приглашению?» — «Зевс — свидетель, нет! — воскликнул царь, — Разве что дом этот был бы достаточно велик, дабы по должному чину вместить стражу, телохранителей и, наконец, меня самого». — «Ну вот и я отвечу точно так же, ибо получить жилье не по чину было бы для меня тягостно, а чрезмерность печалит мудрецов более, чем царей скудость. Пусть же будет моим гостеприимцем человек частный, состоянием равный мне, а с тобой я буду видаться, сколько пожелаешь». Царь согласился, избегая хоть в чем-то не угодить Аполлонию, и таким образом тот нашел приют в доме некоего вавилонянина, мужа именитого, да и в прочих отношениях благородного, с коим не успел он и отобедать, как уже явился евнух, используемый для устных поручений, и обратился к нему с такими словами: «Царь дарит тебе десять даров и предоставляет право самому назвать их, однако же не следует тебе просить о какой-либо малости, ибо царь желает и тебе и нам явить великодушную щедрость». Поблагодарив за известие, Аполлоний спросил: «Когда же должен я обратиться со своею просьбой?» — «Завтра», — отвечал посланец и без промедления отправился ко всем друзьям и родичам царя, призывая их присутствовать при одаривании гостя, когда тот совершит свой выбор. А Дамид, по его собственному утверждению, и не ожидал поначалу, что Аполлоний выскажет какую-нибудь просьбу, ибо успел изучить его нрав и знал обычную его молитву к богам: «Боги, дайте мне владеть малым и не испытывать необходимости ни в чем». Однако затем, заметив, что Аполлоний погружен в глубокое раздумье, и предположив, что он все же решил о чем-то просить, Дамид принялся выпытывать, какую просьбу памерен он высказать. Лишь к вечеру тот ответил, наконец, следующее: «А я, Дамид, рассуждаю сейчас сам с собою, почему у варваров евнухи почитаются скромниками и допускаются в женские покои». «Ну, Аполлоний, это ведь и ребенку ясно! — воскликнул Дамид. — Оскопление отняло у них способность к любострастию, вот их и допускают в терема, даже если в действительности они непрочь переспать с женщиной». — «А как ты полагаешь, — спросил Аполлоний, — отняло у них оскопление способность влюбляться или способность сходиться?» — «И то, и другое, — отвечал Дамид, — ибо ежели уничтожен член, вселяющий в тело похоть, то тело это уже не будет охвачено любовною страстью». Немного помолчав, Аполлоний промолвил: «Завтра ты узнаешь, Дамид, что и евнухи могут влюбляться и что страсть, порожденная очами, в них не угасает, но остается жаркой и пылкой, — долженствует случиться нечто, опровергающее твои слова. Впрочем, если бы даже человеческая изощренность обладала такою властью и могуществом, чтобы напрочь искоренить упомянутые выше помыслы, то я все же полагаю, что не следует приписывать евнухам особое целомудрие, ибо они просто вынуждены к оному, будучи насильственно лишены способности любить. Целомудрие состоит в том, чтобы желание и стремление не распалять в любострастие, но обуздав себя, возвыситься над этим бешенством». Дамид возразил: «Об этом предмете мы еще поразмыслим, Аполлоний, а сейчас надобно подумать, как тебе завтра ответить на великодушное послание царя. Ты можешь, разумеется, вообще ни о чем не просить, однако, ежели покажется, будто ты отвергаешь царские дары из гордости, то, говорят, придется тебе быть настороже и глядеть в оба, потому что, как ты сам видишь, не только вся страна, но также и мы сами всецело в царской власти. Надобно опасаться, как бы тебя не попрекнули надменностью, и надобно понять, что, хотя нынешних припасов нам хватит до Индии, но на обратный путь их хватить не может, а новых ждать неоткуда».