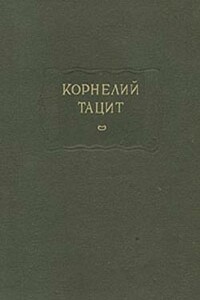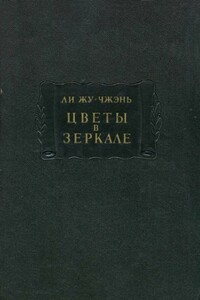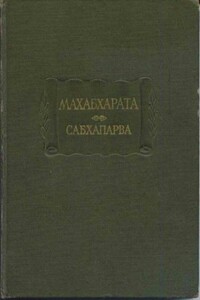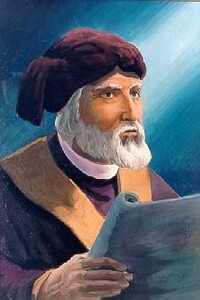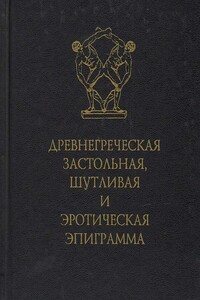Жизнь Аполлония Тианского | страница 19
и как спознались Аполлоний с Варданом и о чем беседовали(30—32)
30. Явился Аполлоний, окруженный толпою, — таковым способом полагали царедворцы уважить царя, ибо успели уже разузнать, что он обрадовался гостю, который, впрочем, проходя по царским палатам, отнюдь не глазел ни на какие диковины, но словно продолжал шагать привычной дорогой и даже подозвал Дамида, заведя с ним такую беседу: «Ты давеча спрашивал меня об имени той самой уроженки Памфилии, которая якобы была в дружбе с Сафо и в песнопениях во славу Артемиды Пергейской[40] сумела совместить эолийский лад с памфилийским» [41]. — «Спрашивать-то я спрашивал, — отвечал Дамид, — но ты мне ее имени не назвал». — «Верно, дружок, зато я растолковал тебе ключи и названия этих песнопений, а также способ, посредством коего эолийский лад видоизменяется, достигая высоты, присущей памфилийскому ладу, — но затем у беседы возник какой-то иной предмет, так что и ты уже не спрашивал меня более об имени сочинительницы. Так вот звали эту премудрую жену Дамофилой, и рассказывают, будто она, подобно Сафо, имела сношения с девицами и слагала любовные стихи, а также и храмовые песнопения, из коих одно, а именно посвященное Артемиде, переделано ею для пения на сапфический лад». Насколько мало был смущен Аполлоний близостью царя и великолепием царских покоев, явствует из того, что он не почитал все это достойным даже и мимолетного взгляда, но продолжал беседовать о вещах посторонних, глазом не поведя на окружающую его роскошь.
31. Преддверие храмового чертога было обширно, так что царь уже издали приметил вошедшего Аполлония и тут же, обратясь к свите, сказал, что узнал его, а когда тот наконец приблизился, громогласно воскликнул: «Вот он, тот самый Аполлоний, о коем Мегабат, брат мой[42], говорит, что видел его в Антиохии, где был он предметом восхищения и преклонения для всех, взыскующих добродетели, — точно таким изобразил его тогда Мегабат, каковым вижу я его ныне!». Когда Аполлоний подошел к царю с приветствием, тот, обратившись к нему по-гречески, пригласил его вместе свершить жертвоприношение, а намеревался он жринести в жертву Солнцу чистопородного белого нисейского жеребца[43], увешанного побрякушками, словно для триумфального шествия. «Ты, государь, жертвуй по-своему, — возразил Аполлоний, — а мне позволь сделать это по-моему». И затем, зачерпнув горсть ладана, он воззвал: «О Гелиос, пошли меня в дальние края, любезные тебе и мне, — да повстречаю я мужей добрых, да не узнаю злых, и они меня да не узнают!» Промолвивши так, он бросил ладан в огонь и пристально следил, высоко ли вздымается дым, сильно ли чадит пламя и на сколько разделяется языков. Наконец узрев в чистоте огня доброе знамение, он обратился к царю: «Свершай жертву, государь, как велят тебе отеческие обычаи, а мои обычаи ты узрел».