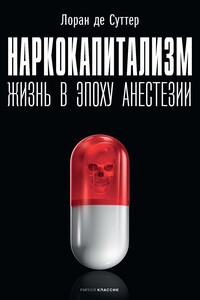Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии | страница 46
В том числе поэтому в зоне откровенности, порожденной женским активизмом, речь так часто заходит о «первом насильнике», и фигура эта обладает такой же несводимостью ко всем прочим аналогичным ей последующим, как, например, первый мужчина по отношению к дальнейшим. Речь не о том, что насильник может быть в какой-то степени эквивалентен партнеру-мужчине, хотя к такого рода эквивалентности явно склоняются там, где женский сексуальный отказ оказывается под вопросом. В то же время, чтобы объяснить неустранимость этой новой позиции, необходимо сдержать как притязания «дикого психоанализа», всегда видящего в насилии отзвук желания жертвы, так и противолежащие ему бескомпромиссные представления феминистской идеологии, согласно которой насилие должно быть лишено какого-либо обоснования изнутри ситуации насилуемого. Последние требования, будучи на стороне буквально понимаемой социальной борьбы, упускают то, что сама по себе откровенность женщин в этом вопросе, которую феминизм приветствует, равно как и развязывание женской речи на этот счет, возможна только на основе легализации родства нового типа.
Это, несомненно, может выглядеть парадоксально, поскольку в нынешней критике общественной «культуры насилия» все обстоит ровным счетом наоборот – с точки зрения этой критики именно до тех пор, пока в насильнике остается нечто традиционно «родственное», будет ли он мужем, братом или отцом, насилие сохраняет возможность прибегнуть к своему отрицанию и стиранию. Напротив, логика приращения структур родства за счет ранее не имевших места в этих структурах элементов предполагает, что наличествующее или же отсутствующее со стороны насилующего традиционное родство в любом случае отменяется в пользу родства особого типа, где насилующий становится «новым родственником», отношения с которым, даже если акт был единичным, носят оригинальный и пожизненный характер. Именно скрыто произошедшее в культуре расширение структур родства, в том числе на отношения насилующего и жертвы насилия, приводит к тому, что насильник появляется как таковой, в противном случае он и далее оставался бы в зоне невозможности сделать о произошедшем заявление, умолчания, которое вызывает такое глубокое изумление у общественности («Почему она скрывала это так долго?»). Именно потому умалчивание постоянно должно рационализироваться представителями феминистских движений как проистекающее из психических внутригендерных причин – например, из специфического, испытываемого женским субъектом торможения в момент насилия и после. При этом подлинной дискурсивной причиной молчания на деле является или утопание позиции насилующего в прочих родственных отношениях и структурах, или же совершаемый женщиной психический отказ распознавать произошедшее в тех случаях, когда насильник оказывается незнакомцем и не принадлежит ни к одной традиционной родственности.