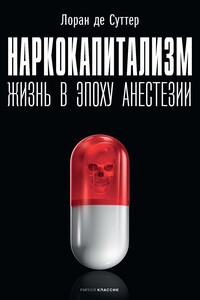Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии | страница 45
Это означает известную некорректность распространившегося благодаря французской феминистской философии представления, согласно которому открытие женщиной своего партнера проходит вне инстанции символического закона, якобы всегда и изначально прописанного по мужской части и оставляющего женскому субъекту радикально иные пути, основанные на отказе от использования символического регулятора как такового. Скорее, напротив, «проблема» женского, в том числе в мужских глазах, заключается в том, что женский субъект заходит в области символического производства существенно дальше, нежели это может быть предписано самим установившимся нормативом интенсивности этого производства, предполагающим опору на уже известные позиции, содержащиеся в традиционной родственной прописи. Женский субъект не просто склонен сгущать область породнения – например видеть в отце брата с несостоявшейся судьбой – но также оказывается в отношениях с неучтенными и новыми единицами, приписать которые к уже имеющимся структурам не представляется возможным.
Правило это, по всей видимости, обладает универсальностью, последствия которой выступили на передний план вместе с описанной выше литературной процедурой расщепления мужского, окончательно ратифицировавшего эту женскую способность. То, что совершает женский субъект, восхищаясь занимающим ее воображение героем книги или кинофильма, никогда не бывает верифицировано с точки зрения предположительных символических позиций, которые эти фигуры занимают или могли бы занять. Питая нежную страсть к выдуманному персонажу – обычно презентационного, а не демонстрационного «мужского» пола – девушка вовсе не фантазирует о своем любовном будущем, как традиционно предполагает психология, а уже имеет отношения в настоящем, и партнер этих отношений каждый раз нуждается в определении не столько с точки зрения его пола, сколько с точки зрения характера представляемой им родственной позиции.
Конец маргинального, начало женского
Возвращаясь к современному феминизму, следует, таким образом, спросить: на чем держится связность образованной им политической общности, которая, невзирая на постоянное раскалывание и хорошо известную внутреннюю враждебность между своими движениями, тем не менее сумела создать единый мощный и влиятельный фон? Какая новая, иная родственность отвечает за постигший движение массовый успех?
Очевидно, что речь идет о позиции, в отношении реальности которой большая часть феминистских направлений становится все более солидарной, и это позиция, занятая фигурой того, кого называют «насильником». При этом в наиболее актуальных версиях феминистской программы, как правило, оттачивающихся посредством коллективных акций и широко распространившихся флешмобов, необходимо говорить не о насильнике как угрожающей культурной потенциальности, связанной с общим восприятием женского, пронизанном шовинизмом, но и не о конкретном нападающем, с которым связан индивидуальный и реплицируемый травматический опыт, а об особом месте в системе отношений, которое для отдельных женщин вполне может остаться пустующим. Не встретить насильника – не значит опровергнуть массовый женский опыт взаимодействия с насильником, но не потому, что этот опыт значим чисто статистически (на что обычно упирает еще не выработавшая соответствующие механизмы объяснения феминистская дидактика), а поскольку при нахождении субъекта на женской позиции соответствующая насильнику структурная ячейка, слот – заполненный или же нет – имеет место в любом случае.