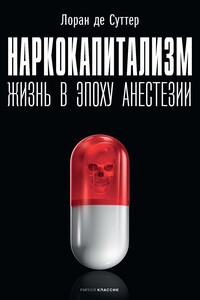Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии | страница 30
Важно иметь в виду, что это не означало каких-либо реальных перемен как в реальной мужской сексуации, так и в том, что касалось тогдашней социальной дистанции полов. Произошло нечто иное: в литературе возникла новая практика, не выходящая за пределы этой литературы и не оказывающая непосредственного общественного влияния на обычаи и нравы, но при этом открывшая путь другим практикам, связанным с ее появлением. Читающие женщины начинают активнее сообщаться с другими женщинами, у них возникают не просто общие темы для разговоров, но и полноценные речевые и иные практики, служащие производству внутриполового удовольствия, внешне опирающегося на интерес к мужским персонажам, но при этом предваряющим появление влечения к другой женской персоне, способной предъявить удачную или занимательную трактовку мотивов героя.
Это, по всей видимости, противоречит тому, что пишет в своих наиболее известных феминистских манифестах Вирджиния Вулф, настаивающая на существовании непреодолимой стены между женщиной и большой литературой:
«Когда бы я не проходила мимо стройных рядов полок с книгами мистера Голсуорси и мистера Киплинга, я вынуждена снова и снова признавать, что все эти величайшие из творений наших самых прославленных писателей-мужчин остаются для меня пустым звуком. Да и может ли вообще женщина припасть к тому живительному источнику, которым, как наперебой уверяют ее литературные критики, эти произведения выступают для своих читателей? Ведь книги с этих полок не только прославляют исключительно мужские добродетели и живописуют мир одной только сильной половины человечества, но и сам душевный настрой, которым они пронизаны, для женщины просто непостижим… Ведь ни в мистере Киплинге, ни в мистере Голсуорси нет ни капли женского»[6].
Крайне интересно, что в этом выпаде, если подойти к нему с точки зрения истории читательской практики, нет ничего соответствующего действительности. Различие, на котором Вулф настаивала, видя в нем непреодолимую стену, никогда не было для женщин-читательниц препятствием: даже статистически женщины как потребительницы «мужской» литературы всегда были в большинстве. Если же учесть тот объем извлечений, которые они для себя из воплощенных в ней практик совершали, женское преимущество в вопросе ее освоения делается несомненным, равно как несомненно и влияние чтения на женское взаимодействие и появление его новых упроченных форм.
Связь между этими событиями – внутренним литературным и внешним, связанным с открытой женщинами процедурой породнения, – таким образом, эмпирически заметна, но теоретически еще только должна быть реконструирована. Можно спросить, как преобразовали возможность женщины желать другую женщину и искать с ней союза произведения, начиная с романтической традиции до приключенческого корпуса Стивенсона, Лондона, Конан Дойля? Проиллюстрировать это наиболее ярко позволяет диккенсовский корпус, развивший предыдущие традиции романизма и окончательно исторически разделивший всех описываемых в литературе мужчин на субъектов отталкивающей генитальной мужественности (аристократичной, воинственной или же разбойничьей) и, с другой стороны, на главных героев в новоевропейском смысле – нарративных «я-героев», или же героев, за которых в третьем лице «мыслил» и объяснялся автор. Подобные герои также обычно были мужчинами, но, как выражаются математики, «со штрихом», со специфической особенностью, отличающей их от традиционно выписанных мужских персонажей. Эти «иные мужчины», таким образом, оказывались в парадоксальном положении: дважды наделенные (мужским) полом – со стороны как общефабульной, так и со стороны приоритетности их взгляда на внутрироманное положение вещей, – они в то же самое время были дважды внеполы – как со стороны выделяющего их нарративного повествования, предлагающего возможности идентификации с протагонистом для читателя любого пола, так и в области, где они явно контрастировали с другими мужскими персонажами – их девтероили антагонистами.