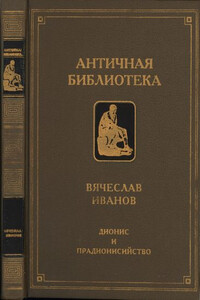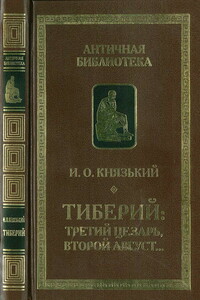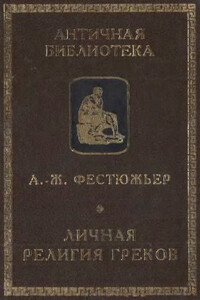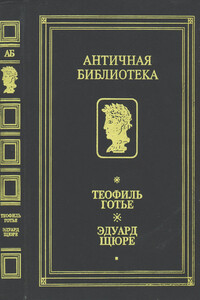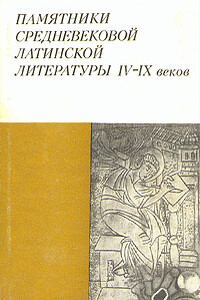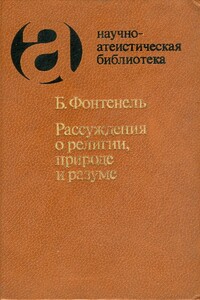Первый Ватиканский мифограф | страница 14
Совершенно очевидно, что при существующей многовековой традиции нет надежды на полную унификацию античных имен собственных, да в ней, конечно, и нет необходимости. Например, греческие имена с окончанием -οσ обычно теряют его в передаче на русском: Αισχύλος — Эсхил. Но даже специалисты очень бы удивились, если бы вместо имени Минос они встретили Мин, а все греческие острова потеряли бы свое окончание и превратились в Лемн, Лесб или, хуже того, в Хи и К. Положение еще более осложняется в том случае, когда переводятся тексты, заимствованные из античных источников средневековыми компиляторами, не имевшими никакого представления о произносительных нормах древнегреческого и классической латыни. Если придерживаться произношения их времени, то надо писать Коринт или Ципр и этим еще больше запутать читателя, которому несомненно известны Коринф и Кипр.
Поэтому в настоящем издании пришлось прибегнуть к известному компромиссу, суть которого сводится к следующему. Имена, давно прижившиеся в русском языке, сохранены в привычной транслитерации, т. е. оставлено ц там, где в греческом и латинском было к (напр., Цирцея, циклопы, Цезарь, Церера), и т — там, где в греческом была тэта (напр., Прометей). Сохранена форма именительного падежа в именах типа Стикс, Парис, хотя правильнее было бы писать Стиг и Парид. В имени Сизиф серединное глухое с передано через з во избежание фривольных ассоциаций.
В остальных случаях греческая тэта передана через φ (Эгисф, а не Эгист и т. п.), в греческих и латинских именах восстановлено их исконное к (Акеста, а не Ацеста, Кеик, а не Цеик и т. п.). Имена, различающиеся в формах именительного падежа и косвенных падежей, транслитерируются по основе последних (Калхант, а не Калхас, Беллерофонт, а не Беллерофон, Бусирид, а не Бусирис и т. п.). Начальный греческий дифтонг Ευ- передается везде через Ев-, кроме названия восточного ветра Эвр.
5
Как составлены примечания
Читатель, наверное, уже заметил, что от характеристики Первого мифографа мы перешли к вопросам, связанным с его передачей в русском переводе. Поэтому пришло время сказать несколько слов о стиле Ватиканского мифографа, хотя едва ли правомерно говорить об индивидуальном стиле компилятора, переписывавшего целые куски из своих предшественников — Гигина, Сервия или Фульгенция, которых, кстати говоря, вопросы стиля тоже не слишком беспокоили. Все же заметим, что там, где читатель найдет тавтологию (например, в I. 43. 4; II. 49. 3; III. 6—7. 5—6; 31. 2 и 4) или нагромождение придаточных временных, он должен знать, что эти стилистические небрежности присущи оригиналу, и переводчик не считал нужным их исправлять. Только в кн. I. 25. 1—2, где на 6 строк оригинала приходится два придаточных определительных, по одному — времени, цели и следствия и еще два причастных оборота, пришлось передать этот невозможный для русского языка период тремя независимыми предложениями. Слова, заключенные в ломаные скобки, кроме случаев, оговоренных в примечаниях, введены для ясности изложения.