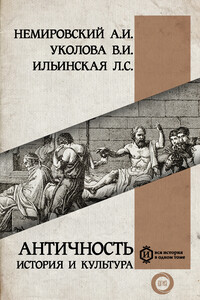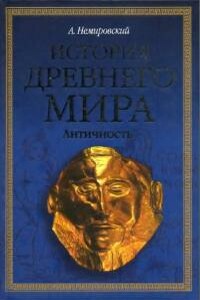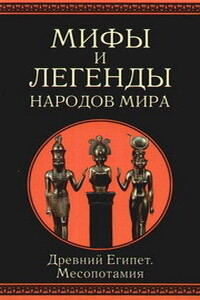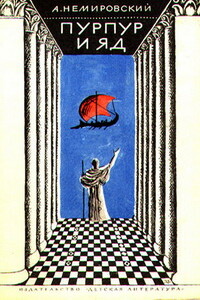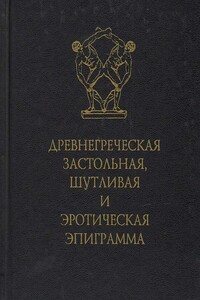«Римская история» Веллея Патеркула | страница 125
Антитеза характерна не только для авторской речи. Побежденный Митридат говорит Помпею: «Non esse turpe ab eo vinci, quem vincere esse nefas, neque inhoneste aliquem summitti huic, quem fortuna super omnes extulisse. — He позорно потерпеть поражение от того, кого беззаконно было бы победить: не бесчестно подчиниться тому, кого фортуна поставила выше всех» (II, 37, 4).
Особенно — показательна антитеза при описании драматических ситуаций, связанных с гражданскими войнами. Выразительность достигается главным образом с помощью анафоры, как лексической, так и синтаксической, а иногда и обеих вместе: «Alterius ducis causa melior videbatur, alterius erat firmior. — Дело одного полководца казалось более справедливым, другого — более надежным» (II, 49, 1); «Hic omnia pretiosa, illic valentia. — Здесь все блистательно, там — прочно» (II, 49, 2); «Nihil relictum a Caesare, quod servandae pacis causa temptari posset, nihil receptum a Pompeianis. — Ничто не было упущено Цезарем для сохранения мира, ничто не было принято помпеянцами» (II, 49, 3); «Pompeium senatus auctoritas, Caesarem militum armavit fiducia. — Помпея вооружил авторитет сената, Цезаря — доверие воинов» (II, 49, 2).
Во всех этих случаях антитеза строится на антонимии, которая зачастую обусловлена только контекстуально: Помпей — Цезарь, авторитет сената — доверие воинов. Антитеза всегда начинается с анафоры, которая может быть лексической (nihil — nihil) или синтаксической (hic — illic). Почти всегда для нее характерно симметричное расположение срединных и конечных членов.
Завершенность синтаксических построений Веллея Патеркула, как правило, остается вне поля зрения современных исследователей. Например, А. Вудмен находит, что В. Патеркул строит свои периоды «неопытной рукой». В то же время он отмечает недостаточное внимание ученых к структуре фразы Веллея Патеркула и посвящает небольшую статью стройной организации периода в описании битвы при Акции[607].
Интерес В. Патеркула как историка сосредоточен на исторических деятелях: на первом плане у него — личность. Это обстоятельство отразилось на стиле всего сочинения в целом. Портретные характеристики почти всех политических деятелей отличаются стройной синтаксической организацией и умелым использованием риторических средств.
Для Веллея характерно обилие превосходных степеней, некоторые из них появляются впервые у него, например, cruentissimus (II, 53, 3), distractissimus (II, 114, 1), fulgentissimus (II, 71, 1), perfeсtissimus (I, 5, 2; II, 36), а также слов, выражающих превосходство (eminens, eminentia, claritudo, elucere и др.) — Применяемые прежде всего к принцепсам и членам императорской фамилии, они призваны подчеркнуть особое положение, занимаемое в государстве новыми господами, вытеснившими из политической жизни народ и оставившими сенату почет без власти. Для того чтобы еще боль ше подчеркнуть их величие, он применяет по отношению к самому себе уничижительные оценки типа «если позволит моя посредственность», которые обычны для литературы монархических эпох. В этом отношении язык «Римской истории» Веллея больше говорит о переменах, происшедших в обществе, чем что бы то ни было.