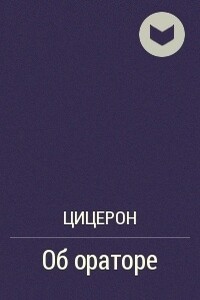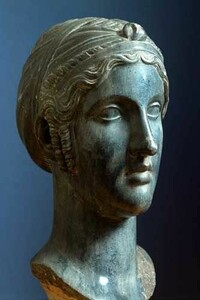О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков | страница 9
Уже конкретная этическая проблематика рассматривается в трактате «О старости» (конец 45 г. — начало 44 г.), к которому примыкает последующее сочинение «О дружбе» (44 г.). Та же этическая ориентация характерна и для следующего «блока» — «О природе богов» (июль — август 45 г.), «О дивинации» и «О судьбе» (весна 44 г). В них проблемы, традиционно включавшиеся в иной (помимо этики) раздел философии, так называемую физику (разделение философии на физику — науку о мире, этику — науку о человеке и логику — науку о мышлении и познании было окончательно закреплено в стоической школе), опять-таки помещаются в некий этический контекст: понятие судьбы рассматривается ради определения должного поведения человека; космо- и теогонические представления, божественные явления, в том числе знамения и т. п., разбираются, дабы определить подобающее место религии в ряду иных общественных институтов и т. д. Той же «этизацией» отчасти отмечена и написанная в 44 г. «Топика» (прямо соотносимая с соответствующим сочинением Аристотеля и по предмету входящая в область традиционной логики), в которой постоянны рассуждения о должном поведении, благе и пороке, врожденной или благоприобретенной добродетели и т. п.[17] Наконец, весь корпус завершается трактатом «Об обязанностях», являющимся, по сути, декларацией обязательности практической реализации философских предписаний: «При том что в философии многие полезные и серьезные предметы обсуждены философами и тщательно, и пространно, в том, что касается изложения обязанностей и рекомендаций по поводу их, остается непочатый край для исследований. А между тем нет такой области в жизни, ни в делах общественных, ни в частных, ни в судебных, ни когда ты пребываешь сам с собою, ни когда общаешься с другим, в которой можно было бы обойтись без обязанностей, и в следовании им заключено все достоинство жизни человека, а в небрежении — вся ее неприглядность» («Об обязанностях» I 4). Круг построения некоей системы практической философии замкнулся: начавшись с анализа должного государственного устройства, он завершился описанием должного поведения гражданина этого государства.
Трактат «О пределах блага и зла» (De Finibus Bonorum et Malorum) во многом является квинтэссенцией философских трудов Цицерона — как в содержательном, так и в стилистическом аспекте. Написанный в мае — июле 45 г., он стоит как бы в центре его теоретических сочинений и хронологически, и по сути, поскольку разбираемая в нем категория «высшее благо» представляет собой конечную цель и основание этической теории, и потому многократно упоминается и в других произведениях, содержащих разбор иных этических принципов и норм