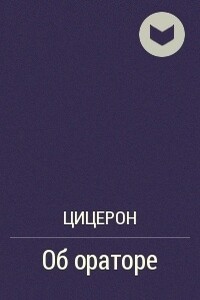(характерно при этом, что собственно метод Цицерона именуется «сократическим», § 23 — см. выше об образе Сократа в цицероновской философии). В то же время Цицерон, безусловно, демонстрирует свое знакомство с главными постулатами стоиков (от которых берет сам термин «парадокс», греч. παράδοξος — «отличающееся от принятого мнения», оттого «удивительное, выдающееся, невероятное» — см. упоминания о стоических парадоксах у Диогена Лаэрция VII 123; Плутарха «Об общих понятиях» 1060b; Александра Афродисийского. «Комментарий к “Топике” Аристотеля» 147, 12 и т. д.) — и это отчасти подтверждает возможность того, что он пользовался достаточно адекватным изложением стоического учения и при написании третьей книги «О пределах блага и зла», о чем мы говорили выше. Параллели двух трактатов, естественно, не исчерпываются «стоической составляющей» «О пределах…»; в «Парадоксах» Цицерон также рассматривает эпикурейское представление о тождестве блага и наслаждения (§ 11—15). Да и в целом основное содержание «Парадоксов» можно рассматривать как некое приготовление к «Пределам блага и зла»: в них анализируются те же представления о добродетели, благе, в них царит тот же образ «блаженного мудреца» (причем характерно, что он также помещен в конец трактата, будучи предметом пятого и шестого парадоксов — ср. выше о структуре аргументации в сочинении «О пределах блага и зла»).
Наконец, сам способ подачи материала, стиль изложения следуют тем же принципам, которые мы наблюдали в большем трактате. Разбор теоретических положений иллюстрируется множеством исторических примеров и реалий, причем исключительно римских. Рассуждая о том, что есть благо, Цицерон ссылается на поступки и поведение знаменитых римлян, начиная с легендарного основателя Рима Ромула и кончая Сципионами и старшим Катоном (§ 11—12). Одновременно он то и дело обрушивается на своих политических противников, используя в качестве отрицательных примеров того же Клодия (§ 27 и далее) или Красса (§ 44—47). Вообще местами изложение философских тезисов переходит в некое подобие политического памфлета, обличающего нравы современного Рима, что еще раз подчеркивает сами мотивы обращения Цицерона к философским предметам — для него это способ формулировки положительной государственной программы. Соответственно и все произведение отмечено, даже в большей степени, чем «О пределах…», нарочитым риторическим пафосом, частым использованием риторических фигур и приемов