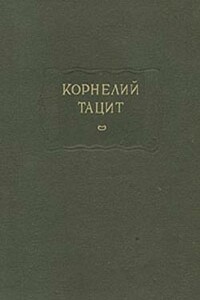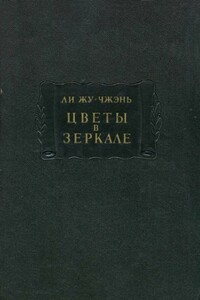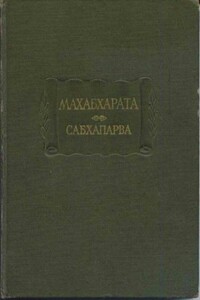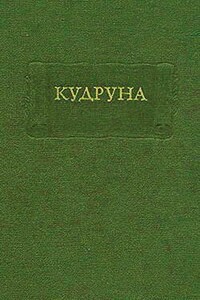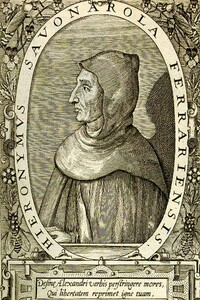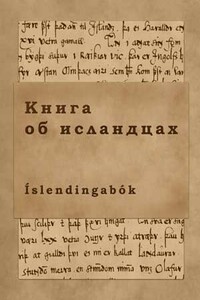Византийская любовная проза | страница 58
А Кратисфен: «Я могу придраться к твоим словам, и у меня есть довод сильнее твоих — вот перед нами картина, и живописец безупречен. Лету, зиме, весне, определена своя пора, как следует из картины и как говоришь ты, но не Эроту. Раз он перепрыгивает мету — это насилие, раз он путем насилия нередко подчиняет нас, это — исключение, а не правило: ведь кисть живописца — копье Гермеса, — она заострена тем, что изображает».
Я отвечаю ему: «Но копье притупится от красок, в которые погружается. Ведь Эрот на картине изображен царем, и весь род людской с рабской покорностью окружает его; те же, кому художник усвоил ту или иную пору года, тоже люди, а раз весь род человеческий служит Эроту, как же его часть может избежать общего удела? Если всякий отрезок и промежуток времени состоит, словно из вещества, из дня и ночи, а они, согласно картине и твоим поучениям, сами у него в рабстве, ясно, что все, порождаемое из них, через них и в них, не только не избежит рабства, но против воли будет порабощено».
С этими словами я поцеловал Кратисфена, прибавив: «Я победил тебя, Кратисфен!» А он в ответ: «Пусть будет так, ты победил, но пойдем домой».
Возвратившись к себе, мы легли. Какой-то шум в саду заставил меня подняться. Я вижу у водоема Исмину, подлетел к ней, вспомнил о ногах Эрота, которые в отличие от людских крылаты, и превознес живописца, нарисовавшего картину: ведь Эрот окрылил сейчас и мои ноги.
Смело я охватил девушку руками и поцеловал. А она от стыда и неожиданности: «Что с тобой? — закричала, — как ты дерзок, вестник».
Я же: «Ничего, — сказал, — кроме этой горькой и сладчайшей любовной страсти».
И снова стал целовать ее, снова стискивал в объятии, притягивал всю ее к себе, словно заключал в сердце, сжимал пальцами, всю кусал, всю ее впивал губами и весь приник к ней, как плющ к кипарису. Я сплетался с девушкой, как деревья корнями, старался слиться с ней воедино, жаждал всю ее поглотить и всю ее вновь исторгнуть, всю ее я притянул к губам и, словно из сот, из губ ее пил губами сладкий мед.
А она в этот миг кусает мой рот, все свои зубы зарывает в него, а у меня в душе вырастают Эроты свирепее гигантов[319]. Когда я от боли сомкнул губы и слегка застонал, она: «Больно губам? — говорит, — а я страдала душой, когда ты за столом отца опрометчиво отверг мою любовь».
Я отвечаю Исмине: «Пусть все тело у меня терпит боль, а губы да пребудут в почете — ведь они служат моим поцелуям. Если же у тебя, как у пчелы, жало и ты охраняешь свои соты и наказываешь того, кто пришел за медом, я не отойду от улья, стерплю боль от твоего жала и соберу мед. Ведь страдание не лишит меня сладости меда, как шипы не отпугнут от розы».