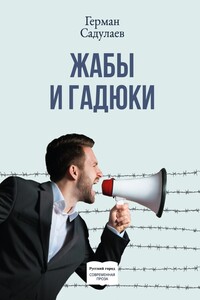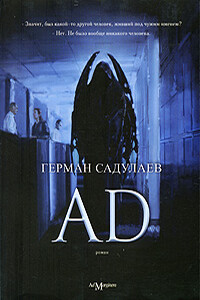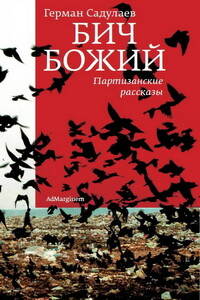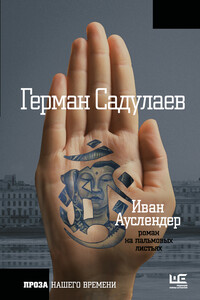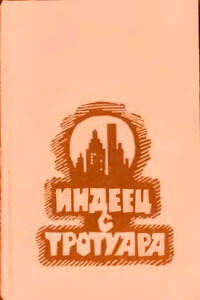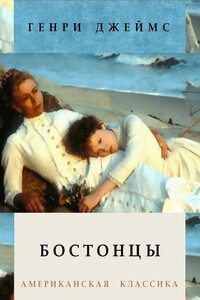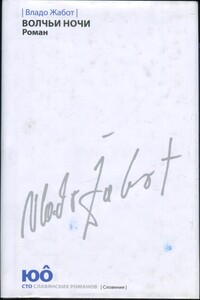Готские письма | страница 58
Два года спустя, осенью 20… года мы с женой были в итальянской Калабрии, гостили у давней моей подруги по восточному факультету. Жили у той самой дороги, по которой готы Алариха шли из поверженного Рима на юг, где-то рядом с тем местом, где Аларих заболел и умер, где был по легенде похоронен; катались смотреть мыс, у которого разбились корабли, нанятые для несостоявшегося переселения готов в хлебную Африку. В Калабрии тоже была терраса с видом на море, были вечерние ужины и мятный чай. За ужином мы обычно говорили о готах. И тогда, отвечая на вопрос умнейшей своей собеседницы, я сформулировал, в первую очередь для самого себя, почему именно готы, почему история готов так меня привлекла. Потому что готы были весьма необычным народом. Люди и народы живут от начала к концу, путешествуют от рождения до смерти, покидают родину и отправляются на чужбину, мечтая когда-нибудь вернуться домой. Но готы жили наоборот, они жили от конца к началу. Они знали, что у них есть родина, когда ещё не были никогда на этой земле, они испытывали один край за другим – тот ли? Здесь ли родина? И ещё, готы были мечтателями. Они грезили о мирной жизни, о бескрайних пшеничных полях, о том, как готские мужчины возделывают тёмные, сочащиеся маслом пашни, а готские жёны в простых деревянных домах поливают молоком русую поросль босоногих готских детей, и светлое солнце над сёлами, и синее небо, и прохладные реки текут, и никто никому не враг. Но всю жизнь, все несколько веков своего достоверного исторического существования готы неистово воевали, не выпуская из рук мечи и не успевая прирасти ладонью к земледельческому инструментарию. Это столкновение тихой мечты с гремящей доблестью породило великую готскую поэтику, воплощённую более в деяниях, чем в словах, но оставившую наследством Европе и Азии многое, если не всё: эпические сюжеты, общественное устройство, государственность и даже архитектуру, не как чертежи, но как идею и вдохновение.
Далее я расскажу тебе об Исидоре и его трактате. Святой Исидор Севильский, называемый на латыни Isidorus Hispalensis, в известном смысле является самым модным, актуальным и современным из католических святых, поскольку многими верующими почитаем как святой покровитель виртуальных сетей, компьютеров и интернета. Папа Римский Иоанн Павел II утвердил как День интернета дату смерти, или, правильнее сказать, преставления Исидора Севильского – 4 апреля. В такой чести для Исидора Севильского есть изрядная доля сарказма. Учителя церкви Исидора, с одной стороны, называют величайшим систематизатором знаний, первым средневековым энциклопедистом, а с другой стороны, критикуют как безыдейного компилятора, автора вторичного, несамостоятельного. Труды Исидора Севильского – это copy-paste тогдашних сведений обо-всём-на-свете. Что, конечно, сближает Исидора с интернетом, который (интернет) предстаёт как хаотическая компиляция, сборище всяческой информации, напоминая порой даже помойку интеллекта и языка.