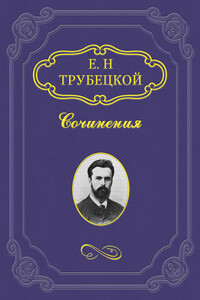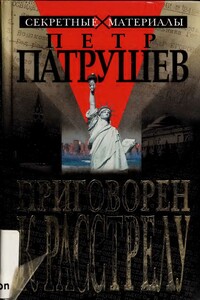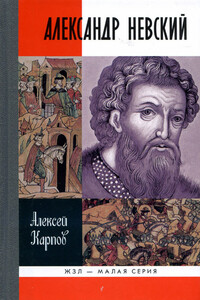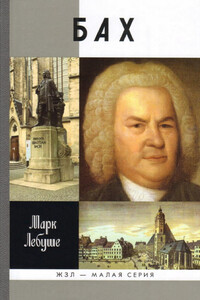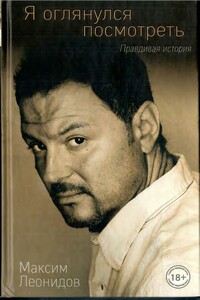Из прошлого | страница 22
Два других сына Папа - брат Сережа и я, внесли этот же самый темперамент в философию. У нас эта наклонность - уходить всем существом в одну мысль и в нее вслушиваться внутренним слухом - дала наклонность к отвлечению и нужную для него силу. Тут философия оказалась дочерью музыки. Да она и на самом деле - музыка: не даром Пифагор слушал музыку сфер. Не знаю, хорошо ли это, или дурно. Но не {51} сомневаюсь, что только благодаря этому отцовскому наследию, я мог под музыку пулеметов, возвещающих рождение Poccии новой, уйти целиком в созерцание той Poccии милых, дорогих отшедших, жить с ними в эти страшные минуты и черпать бодрость духа в этом общении. То неумирающее, что есть в этих родных образах, для меня объединило эти две России. Я почувствовал, что они живы; и как, бывало, в Ахтырке, от этого ощущения рассеялся мой детский страх перед ночью. Не одни они живы,-живо то святое, что наполняло их души.
Да будут же их имена благословенны во веки.
{52}
IV.
Николай Григорьевич Рубинштейн.
Тут я чувствую непреодолимую потребность помянуть добрым словом имя человека, который так много значил в духовной атмосфере, меня окружавшей в детстве и отрочестве. Имя это в то время уже было всероссийским. В особенности в Москве Николай Григорьевич властвовал над душами, - властвовал не только силою своего артистического вдохновения, но и всем своим обликом. Я теперь один из немногих, которые его помнят и испытали всю мощь его обаяния. Тем более я чувствую лежащую на мне обязанность напомнить и другим, чем он был.
В мою память его образ врезался, как олицетворение служения прекрасному. Когда я в юности впервые познакомился с "Моцартом и Сальери" Пушкина, Рубинштейн всегда олицетворял для меня образ Моцарта, но это было верно только отчасти. С Пушкинским Моцартом его сближали только две черты. Это был, во-первых, человек, беззаветно преданный своему искусству, все ему отдававши и в нем горевший, покуда он не сгорел до конца; во-вторых, вне своего служения красоте, это был "гуляка праздный", тот подлинный жрец искусства, который в свободное от занятий время не облекается в мантию {53} жреца, не принимает торжественной позы, а "гуляет" во всю свою широкую натуру.
Я помню его всегда простым, ясным и веселым, бесконечно жизнерадостным и остроумным, душой того общества, которое он посещал. По отношению к своему искусству и по отношению к делу, связанному с музыкой, он был необычайно серьезен, строг и даже нетерпелив. Он был настоящей бессребреник, не знавший цены деньгам, соривший ими, а вместе с тем - необычайно добрый человек, который был не в состоянии в чем-либо отказать лицам, нуждающимся в его помощи. Он часто и много кутил, но так же много и давал другим. Я знаю случай, когда, не имея денег, он отдал бедному ученику консерватории, где он был директором, свою шубу. Лица, знавшие его, мне говорили, что подобные случаи были далеко не редки.