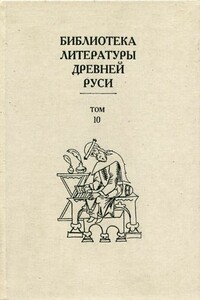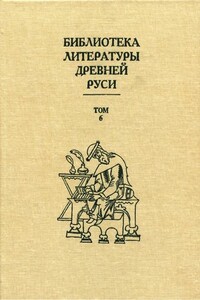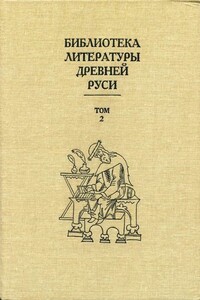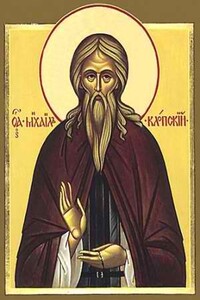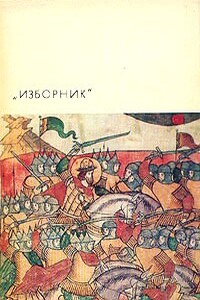Библиотека литературы Древней Руси. Том 14 (Конец XVI - начало XVII века) | страница 5
Очень характерен в этом отношении «Временник» дьяка Ивана Тимофеева. Сведения о происходившем он собирает из разных, иногда сомнительных источников, в чем признается сам, но при этом обобщает и философствует, изобличая то правящие слои общества, то народные массы. По старой манере подменять живую мысль риторикой он крайне запутывает изложение и, в общем, лишает себя читателей, о чем свидетельствует то, что дошло это сочинение в единственном списке и оставило по себе единственный след — в правительственном продолжении «Книги Степенной» 60-х годов XVII века. В ней «Временник» Тимофеева был использован одновременно и как источник сведений, и для стилистического оформления излагаемого.
Наибольшей известностью из сочинений о «Смуте» пользовалось «Сказание» монастырского келаря Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря, составленное им в 1620 году. Оно дошло до нас во множестве списков XVII и XVIII веков. Читателям нравились и его живое изложение, и документальность. В него были включены свидетельства участников обороны Троице-Сергиева монастыря. В основе первых шести глав, по-видимому, лежит сочинение другого автора — «Сказание, киих ради грех», — носившее резко обличительный характер и смягченный при переработке Авраамием. Взгляды Аврамия Палицына занимают главенствующее положение: они изложены в ярких и занимательных картинах обороны Троице-Сергиева монастыря, и им придана сугубо патриотическая окраска. События «Смуты», как никогда ранее, возбудили у автора, а вслед за ним и у читателя патриотические чувства.
Читая произведения, посвященные «Смуте», мы должны учитывать и то обстоятельство, что защита родины приобрела в этих описаниях характер также и защиты веры, а потому все произведения о «Смуте» носят в этот период черты религиозно-церковной идеологии и фразеологии. Недавнее историческое прошлое, следы которого на каждом шагу встречались на широком пространстве Русской земли в виде разрушенных зданий, пропавших ценностей и документов, о чем невозможно было забыть, продолжало тревожить воображение, требовать объяснений и объяснений.
Вслед за «Сказанием» Авраамия во второй половине 1620-х годов в рукописях появилось «Иное сказание», компилятивный памятник, основной особенностью которого, а может быть и задачей, стало оправдание Василия Шуйского и его политики. «Иное сказание» было противопоставлено «Сказанию» Палицына.
В 1626 году была написана и «Летописная книга» («Повесть книги сея от прежних лет») — произведение, прежде приписывающееся князю И. М. Катыреву-Ростовскому. «Повесть», также посвященная «Смуте», постоянно перерабатывалась, так как она выражала официальную точку зрения, а эта официальная точка зрения не отличалась особой устойчивостью, менялась, применялась к обстоятельствам «нынешних» нужд. Во всяком случае официальная точка зрения не исключила обличения «грехов» правящего класса, что было в предшествующее время большим достижением литературы о «Смуте», но затушевывала роль народа в национально-освободительной борьбе. Другой чертой «официальной» литературы была ее умеренность, стремление сгладить сложность событий. Учитывая отсутствие определенности в оценке событий, автор сам «на всякий случай» давал им неопределенные характеристики. Он был готов на компромисс с любым направлением во взгляде на события «Смуты».