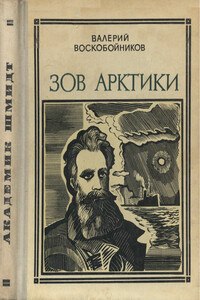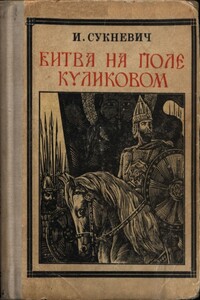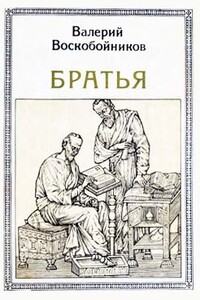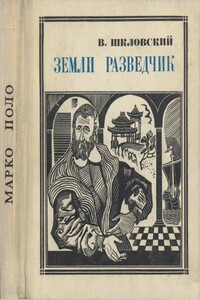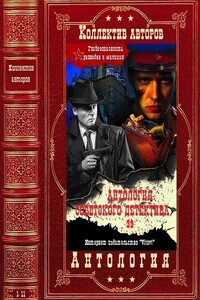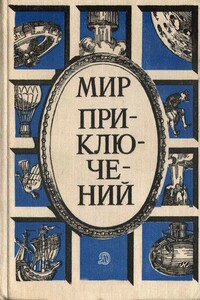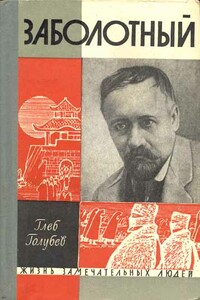Великий сеятель: Николай Вавилов. Страницы жизни ученого | страница 10
Тысяча делянок была у него. На них Вавилов проверял шестьсот пятьдесят сортов пшеницы и триста пятьдесят сортов овса. Богатырский размах!
Он быстро перерастал учителей. Один из них, руководитель станции профессор Д. Л. Рудзинский, «дедушка русской селекции», как его любовно называли, позднее писал Вавилову:
«Мне очень совестно, когда Вы называете меня своим учителем. Ведь мы лишь совместно работали на станции самостоятельно, и я во много раз заимствовал больше от Вас, чем (Вы) от меня, и вообще на дне горький осадок, что я очень мало давал от себя моим сотрудникам, требуя от них большой работоспособности, которой я тогда был одержим…» Впрочем, и в такой скромности и самокритичности Д. Л. Рудзинский оказался хорошим наставником для молодого ученого.
Много дали Вавилову занятия в Бюро прикладной ботаники в Петербурге, где собирали и изучали коллекцию всех возделываемых в стране зерновых растений.
Весьма по-разному реагировали на болезнь всходы растений даже одного сорта, но из семян, привезенных из различных мест, и Вавилову становилось ясно: работа предстоит бесконечная. В идеале нужно собрать и проверить образцы из всех стран, со всей планеты. Чем богаче окажется коллекция, тем надежнее сможет земледелец выбирать и выращивать такие растения, которые не погубят болезни, опасные в этих краях.
И селекционер, обладая такой коллекцией, сможет создавать не поддающиеся болезням сорта, если только устойчивость эта передается по наследству, что предстояло еще выяснить.
О наследовании тех или иных признаков у растений наука в те годы знала еще очень мало. Гениальные открытия скромного монаха Грегора Менделя прошли незамеченными. Только на рубеже двадцатого столетия их заново открыли сразу Гуго де Фриз в Голландии, Карл Корренс в Германии и австрийский ботаник Эрих Чермак.
Селекция ведется по старинке, вслепую, наугад: авось и получится нужный сорт. На такие поиски уходят долгие годы, и нередко впустую. Генетика лишь рождалась — в противоречивых по результатам опытах, в горячих спорах. Пожалуй, к ней можно было с еще большим правом отнести то, что позднее великий Эйнштейн как-то сказал о кризисе в физике: «Это драма, драма идей».
В свое время всех биологов мира потрясло самоубийство Пауля Камерера, обвиненного в подтасовке результатов опытов по наследованию приобретенных признаков. Научные споры приобретали такой накал, что старые друзья становились врагами и переставали здороваться.