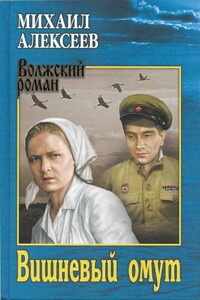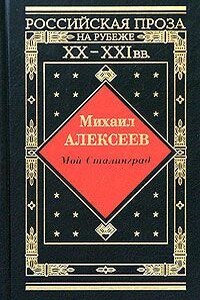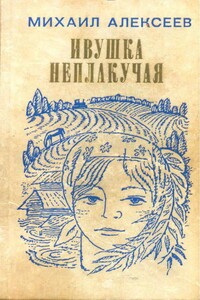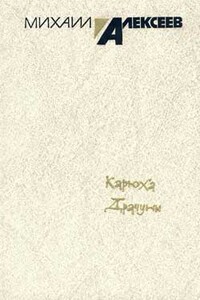Некоторые проблемы современный прозы | страница 5
И таких книг появилось немало. Яркое воплощение ленинская тема в плане, историко-революционном получила в романе Г. Маркова «Сибирь», С. Залыгина «Соленая Падь», В. Закруткина «Сотворение мира», В. Кочетова «Угол падения», С. Сартакова «Философский камень», Е. Пермяка «Царства тихой Лутони», Г. Холопова «Гренада» и «Докер», в произведениях татарских писателей А. Расиха и И. Гази. A. Расих в романе «Ямашев» рассказал об острой и сложной классовой борьбе в Татарии, об одном из первых большевиков Хусаине Ямашеве, который возглавил группу революционеров-татар в девятисотые годы и издавал большевистскую газету для рабочих-татар. Три повести И. Гази, объединенные названием «Незабываемые годы», посвящены, событиям Октября и гражданской войны в Татарии, суровым картинам грозных лет — и романтической красоте победы нового над старым.
В соседних с Татарией республиках одно за другим появляются произведения эпического плана и философского звучания. Это и дилогия «Мост» чувашского прозаика В. Иванова-Паймена, и роман марийца A. Юзыкайна «На царской горке», и «Пробуждение» — вторая книга трилогии «История одной жизни» башкирской писательницы З. Биишевой. Произведение это удостоено премии имени Салавата Юлаева. Нам известно, что автор завершил работу и над последним романом трилогии и назвал его «К свету!».
Неплохо поработали над историко-революционным материалом писатели Севера и Дальнего Востока. «Синий ветер каслания» Ю. Шесталова, «Истоки» и «Ложный гон» B. Санги, книги Н. Золотарева-Якутского, роман нанайца Г. Ходжера «Конец большого дома», роман юкагира С. Курилова «Ханидо и Халерха» (в переводе «Орленок и Чайка»); историческое повествование из четырех романов недавно умершего карельского писателя Н. Яккола — все это произведения о торжестве ленинской национальной политики в судьбах малых народов, возрожденных советской властью к новой, творческой жизни.
Немало историко-революционных полотен создано и в других автономных республиках и областях Российской Федерации. В отдельных случаях рождение такого рода произведений означало одновременно и рождение настоящей прозы в той или иной литературе — факт сам по себе весьма примечательный.
Сошлюсь для примера на дилогию кабардинского писателя Алима Кешокова «Вершины не спят», произведение широкого размаха и дальней перспективы. Действие его охватывает почти полвека жизни кабардинского и балкарского народов, и одна из главных заслуг автора в том, что он, будучи художником, обнаружил в себе и качества истинного летописца: победную поступь Октября в горных аулах Кабарды он списал с предельной объективностью. С добродушным юмором человека, знающего хорошо жизнь простых горцев, ведет свой рассказ Алим Кешоков. Он верен правде истории, помня, что история — категория объективная, и не совершает над нею насилия. Не в его художественном ключе навязывать произвольные суждения. Автор предпочитает объективно отображать жизнь своих героев, не скрывая при этом ни их достоинств, ни их слабостей. Это помогло писателю создать образ истинно положительного героя Инала Маремканова, в связи с чем мне и хотелось сделать небольшое отступление и поговорить о проблеме положительного героя вообще, во всяком случае так, как она представляется мне. Да простит мне