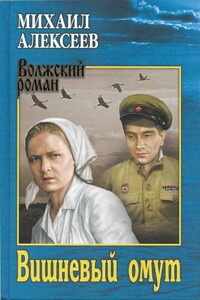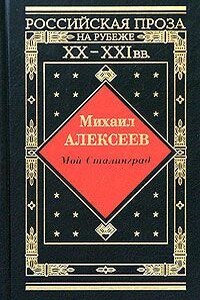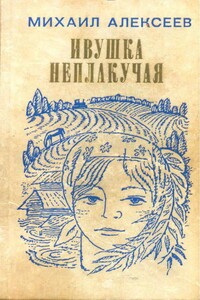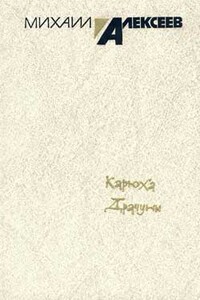Некоторые проблемы современный прозы | страница 16
Оттого-то и хотелось сказать несколько слов о новаторстве, вернее о том, как оно, новаторство, понимается мною лично.
Любой литератор поначалу обязательно кому-то подражает и не может не подражать, подобно тому как ребенок, учась ходить, не может не подражать взрослым. Подражая, постепенно нащупывает свою «походку», свою манеру, свой собственный стиль, ищет самого себя. Иногда эти поиски затягиваются на многие годы, иногда — на всю жизнь. Случается и так, что литератор и вовсе не найдет себя. Но вот наступает момент — у одного быстрее, у другого позже: человек заговорил на бумаге своим, только ему присущим языком, преодолел барьер, отделяющий литературщину от настоящей литературы. И мы удивляемся: до чего свежо! А удивляться, собственно, нечему. Известно, что из миллиардов человеческих существ не отыщется и двух людей, которые во всем были бы похожи. Даже близнецы при почти полном внешнем сходстве непременно окажутся совсем разными по характеру. Величайший художник природа и тут ни разу не повторилась.
Мы можем с одной и той же точки наблюдать один и тот же предмет, но впечатления наши будут неодинаковы. Если человек вполне доверится своему впечатлению и расскажет о нем с большей долей искренности и при этом не будет вспоминать, как о том же самом рассказывалось до него другими,— перед нами явится нечто совершенно неожиданное, а значит, и свежее, а значит, и оригинальное. Мы будем иметь дело с новым талантливым рассказчиком, в нашем случае — прозаиком, которого, если угодно, и можно назвать новатором. И стал он таковым, не тужась перевернуть вверх дном решительно все в речи, на которой говорит породивший его народ, а опираясь на эту речь, работая внутри нее. Не только как поэты, но и как прозаики Пушкин и Лермонтов были нисколько не похожи друг на друга, как не походили на них и друг на друга пришедшие вслед за ними в литературу Тургенев, Гоголь, Толстой. Следовательно, эти великие наши предшественники были тоже новаторами — до чего они все разные и яркие!— и стать таковыми им не помешала классическая, казалось бы, традиционная, реалистическая школа письма.
Из сказанного осмеливаюсь сделать вывод: нельзя стать новатором искусственно. Новаторство — категория естественная, подсказанная внутренними импульсами писателя, то есть всем комплексом его идей и художественных средств.
Немало споров идет в нашей среде о форме и содержании литературного произведения, о том, как соотнести их друг с другом, чему отдать предпочтение, хотя вроде бы все очень просто: в художественном произведении содержание и форма нерасторжимы. К тому же мы знаем, что читатель получает духовное, эстетическое наслаждение не только от мысли, заключенной в произведении, но и от того, как эта мысль изложена, то есть от музыки самого слова. И все-таки форма, какой бы великолепной и изощренной она ни была, находится у содержания в подчиненном состоянии. Содержание диктует, какой быть форме, а не наоборот.