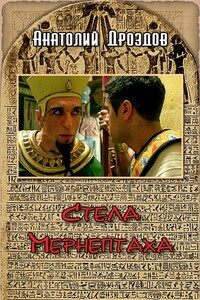Щит четвертого стража | страница 17
— И где та тварь, что заставила их убивать друг друга?
Монах не знал. Никакого безумия он не чувствовал, никто не нападал, не подкрадывался.
«А было ли безумие? — Михаэль смотрел на тело изуверски, страшно убитого первого стража и чувствовал, как внутри поднимается злость. — Руда не исчезла, тел рабочих не нашли. Шахта стала не нужна, когда принялись добывать кристаллические породы, и ее использовали… в качестве искусной ловушки? Но зачем?
А что будут чувствовать люди, когда рядом избранные, отмеченные Богом. Зависть. Сколько не помогай, сколько ни спасай — в их глазах ты этого не заслуживаешь. Особенно, если тебе строят церкви и простые, глупые люди поклоняются тебе. Кому страшнее всех? Королю. Вот ему союз с некроматическим орденом, который позже станет личной охраной короля и лицемерно назовется орденом стражей. Вот шахта, в конце которой и великий маг потеряет свои способности. Убивай проклятых, убивая святых. Сначала пришел второй страж — видно, почуял угрозу и хотел уйти. Его убили и превратили в ловушку — в нее попал третий. Первый изгнал его, чтобы остановить проклятие, а сам отправился прямиком в засаду. И четвертый пал?
Зато ни один артефакт убийцы так и не смогли забрать.
Как же Утереил, Бог света, все это допустил? Ну, зачем людям ТАКОЙ Бог? Зачем я хочу верить в такого? Или его и нет вовсе? Есть только люди с мелочными желаниями, со своими грешками и прихотями».
Михаэль ужаснула мимолетная мысль — если взять щит, и смерти не будет, то он, Михаэль, избран. На него прольется божественный свет Утереила, и, значит, его, Михаэля, Бог существует, и, значит, Бог един для всех миров.
Если нет, если смерть, то… так тому и быть. Щит — просто зачарованная железка, а Михаэль — просто ни на что не годный старик.
На лице монаха появилась робкая улыбка, он сел на колени — снег холодный, кусается — и, ласково, аккуратно поднял реликвию.
Вид у Михаэля стал забавный и очумелый, как у мальчишки с только что вымытыми ушами. Монах зажмурился и внутренне приготовился — к испепеляющей жаре, слепоте, забвению. Он и жаждал, и боялся этого.
Прошла минута, другая. Ничего не происходило.
— Ну? Что-то чувствуешь? — спросил Коряга.
Пять минут. Десять. Монах вздохнул. Хотелось сострить, как-то особенно горько и зло. Насчет лживых легенд и пустого величия, насчет даров Бога, веры, себя, но в тот миг, когда с языка готова была сорваться едкая фраза, лицо Михаэля вдруг исказилось. Казалось, невообразимое, всечеловеческое, всемировое страдание нахлынуло на монашескую душу, и она захлебнулась. Она потонула, потерялась в этом горе, и не находилось для него подходящих слов.