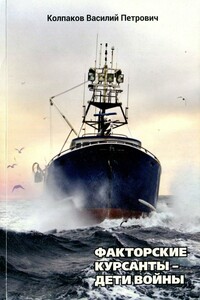Записки случайно уцелевшего | страница 50
Сам по себе факт массового перехода окруженцев, через фронт на участке обороны едва ли не одного полка был достоин осмысления. Он свидетельствовал о^ том, что наши люди, преимущественно московские ополченцы, даже имевшие грамотных командиров, тем не менее очень чутко реагировали на динамику военных действий. А потому, как только в боевых порядках немцев появлялся хоть малейший зазор, так окруженцы дружно устремлялись в эту лазейку.
Но в ту пору это явление воспринималось нашим военным начальством не столько как достоинство уже разгромленного столичного ополчения, сколько как досадная напасть. Поди знай, что делать с этими толпами необученных и в большинстве своем немолодых, а потому достаточно искушенных житейски бойцов, вдруг хлынувших оттуда, с той стороны, иначе говоря - с оккупированной врагом территории. И потому главной установкой начальства в этом вопросе стало -рассматривать нас прежде всего как потенциальных лазутчиков неприятеля.
Утром мы это ощутили в полную меру. Нас нако-нец-то вывели на свежий воздух, построили, опять пересчитали и окружили конвоем автоматчиков из взвода управления. Именно в то утро я впервые услышал, да еще применительно к своей особе, знаменитую словесную формулу, бывшую много лет как бы девизом всей нашей жизни: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом...»
Казалось бы, широко применяемая немцами с самого начала войны стратегия захвата в клещи наших крупных воинских группировок с последующим их дроблением на мелкие части (что было тогда предметом постоянных толкований на любом уровне приобщения к военному делу, а уж у нас, в «писательской роте», и говорить нечего), казалось бы, такая стратегия противника должна была побудить советское командование срочно обучить личный состав действиям в окружении, тактике поведения во вражеском кольце. Но так как в основе советской стратегической доктрины лежала идея «войны малой кровью», и притом «на территории противника», такие слова, как «окружение» и тем более «плен», в качестве уставных терминов из нашего обихода изгонялись.
В плену у немцев уже тогда томилось несколько миллионов советских воинов, но это на деле. В нашей же политической практике просто избегали понятия «плен». Пленных как бы не было. С окруженцами оказалось сложнее - они-то были, и с ними надо было что-то делать.
И вот нашу колонну ведут по шоссе Тула-Москва. По слухам - в Серпухов, на пункт сбора. Переход рассчитан на трое суток. Питание - хлеб и вода. Дневки -в чистом поле. Изможденные месяцем скитаний по немецким тылам, вдрызг простуженные, с отмороженными пальцами на руках и ногах, страдающие колитом от непомерных доз сырой мерзлой капусты и сырых грибов, мы явно не годимся для подобного испытания. Но поди объясни это начальнику конвоя. Поди растолкуй ему этот психологический парадокс: очутившись на своей земле, мы сразу лишились физических сил. Там, в окружении, организм, наверно, выдержал бы еще и не такие лишения. Здесь же он решительно забастовал.