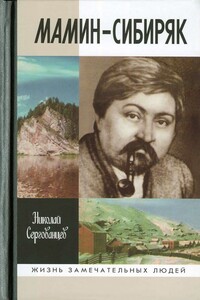Записки случайно уцелевшего | страница 36
Но вот как-то вечером Вениамин Борисович позвонил мне по телефону и попросил меня выйти к нему на угол Армянского переулка.
- Я хочу с вами на всякий случай попрощаться, -сказал он, когда мы встретились. - Дело в том, что всех, кто когда-либо голосовал за Троцкого, снова забирают на Лубянку. Думаю, что ночью придут и за мной.
Признаться, мне тогда его опасения и некоторая обреченность в голосе показались преувеличенными, и я стал совершенно искренно его успокаивать и разубеждать. И только назавтра, когда он не пришел на работу и перестал отвечать его домашний телефон, я понял, что наше вчерашнее свидание было для него последней возможностью оставить о себе хоть какую-то память, послать людям прощальный привет. А я по своей телячьей наивности не оценил по достоинству ни трезвости и проницательности его толкования фактов, ни его прощальной тоски. За что и казнил себя потом не раз.
Что там много говорить. Глан-Глобус был первым человеком, который стремился, хотя и очень осторожно, раскрыть мне глаза на истинную суть нашего общества. Кроме того, он был первым человеком из моего окружения, который бесследно исчез на Лубянке. Впрочем, не совсем бесследно. Когда «Правда» летом девяностого года опубликовала на первой полосе список посмертно реабилитированных оппозиционеров, я нашел там среди громких, всем известных имен и забытую фамилию Вениамина Борисовича. Да, его реабилитировали через шестьдесят лет!
Поистине старый анекдот о разнице между идеалистом и материалистом может послужить эпиграфом к минувшей эпохе тотального большевизма. Ведь согласно этой фольклорной мудрости разница заключается лишь в том, что идеалист верит в загробную жизнь, тогда как материалист верит в посмертную реабилитацию.
И все же если говорить о моем политическом прозрении, то должен заметить, что своим подлинным университетом «марксизма-ленинизма» я считаю свою поездку в Кузбасс. Народная беда впервые предстала тогда передо мной во всей своей наглядности. А потом пошло. Потом трагизм современной истории заглянул и в мой дом. Потом тридцать седьмой год взялся за мое политическое просвещение ударными темпами.
Когда я оказался в «писательскойроте», мне сначала мнилось, что грозящая советскому государству реальная опасность поражения в войне сведет до минимума его репрессивные вожделения. Но уже в августе один из наших товарищей-литераторов был вызван из строя в особый отдел, и больше его никто никогда не видел. Нет, природа этой власти неизменна на всех этапах. ‘