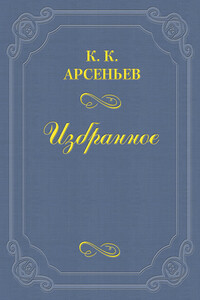христианский
идеал любви и всеобщей солидарности, он верил если не в осуществимость этого идеала на земле, то в возможность постепенного к нему приближения. Он намечал не только цели, но и средства к их достижению; он сходил с высот отвлеченной мысли в самый разгар столкновений между племенами и исповеданиями, между партиями и сословиями, стараясь водворить мир во имя «вселенской правды». В этом соединении культа великих идей с воинствующей их защитой заключался главный источник его силы. На помощь силы приходило необыкновенное дарование. В области слова не было такого орудия, которыми бы С. не владел в совершенстве. Огромная эрудиция всегда была к его услугам: из запаса самых разнообразных знаний он всегда извлекал именно то, что было нужно в данную минуту. Ему одинаково удавалось спокойное изложение собственной мысли и страстное или насмешливое опровержение мысли противника. Меткие параллели, картинные образы рассыпаны у него всюду. Приведем только один пример: поклонников «идола сословного обособления» он сравнивает со жрецами привилегированных богов Тира и Карфагена, требовавшими чужой крови, поклонников «идола простонародного безразличия» – со служителями простонародных божеств фригийских, которые сами лишали себя жизненной силы. Как чередуются у С. злая ирония и безобидная шутка, пламенное красноречие и тонкая диалектика – об этом всего лучше можно судить по «Трем разговорам».
Как человек, С. оставил самую светлую память. По словам Л. З. Слонимского, «готовность делать добро доходила у С. до самоотвержения; он не только не умел отказывать в чем бы то ни было и кому бы то ни было, но сам предлагал свои услуги и оказывал их с необыкновенным вниманием. Не располагая другими средствами, кроме своего литературного заработка, он приобрел репутацию щедрого благотворителя». «Вся жизнь С., – пишет кн. С. Н. Трубецкой, – была стремлением оправдать свою веру, оправдать добро, в которое он верил. Делу своему он отдавался весь, не зная отдыха, беспощадный к себе, торопясь исполнить то, что считал своим призванием. Его жизнь была жизнью подвижника, победившего темные, низкие силы, бившиеся в его груди. Нелегко далась она ему: трудна работа Господня – говорил он на смертном одре. Но в этой трудной работе он не изнемог духом, сохраняя чистое сердце и душевную бодрость, тот высший, чуждый уныния источник веселья и радости, в котором он сам видел подлинный признак и преимущество искреннего христианина».