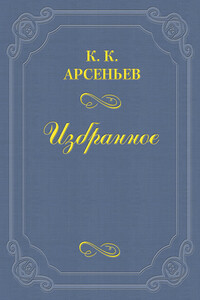Владимир Сергеевич Соловьев | страница 15
Стихотворения С. редко отзывались на злобу дня, но последнее из них, «Дракон», вызвано речью Вильгельма II к немецким войскам, посланным на театр войны. «Дракон» – это Китай, грозящий «неотразимой бедой» и полагающий конец восхвалению «вечного мира»; император, сознающий необходимость серьезной борьбы – это «наследник меченосной рати», понявший, что перед пастью дракона крест и меч – одно. Занятие эстетикой, как частью философии, ввело С. в область литературной критики. В особенности привлекала его русская лирическая поэзия XIX в., о которой он готовил целое сочинение. Широко задуманный труд его о Пушкине остался неоконченным; в печати появилась только первая его часть («Вестн. Европы», 1899, дек.), о личной судьбе поэта он говорил еще раньше в особой статье («Вестн. Европы», 1897, сент.) вызвавшей множество возражений. Очень высоко С. ставил поэтов, оставшихся верными пушкинским традициям, но расширившим содержание его поэзии: Тютчева («Вестн. Евр.», 1895, кн. 4), Алексея Толстого (ib., 1895, кн. 5), Майкова (в настоящем Словаре), Фета (Р. Обозр., 1890, кн. 12), Полонского («Нива», 1896, NN 2 и 6) отчасти и гр. Голенищева-Кутузова («Вестн. Евр.», 1894, кн. 5 и 6). Посвященные им этюды отличаются большим мастерством характеристики, соединением глубины понимании с редким изяществом формы. Чувствуется, что о поэтах ведет речь поэт. Только поэт мог угадать основную черту поэзии Тютчева и выразить ее в гармоничном слиянии образов и рассуждений. Только поэт мог показать в Алексее Толстом «посредника между миром вечных идей и миром вещественных явлений». И вместе с тем всегда и везде оставаясь борцом за идеал, С. намечает черты, благодаря которым участниками этой борьбы являются не только «воинствующий» гр. Ал. Толстой, но и Тютчев, «поэт созерцательной мысли». Первый дорог критику как защитник «живой силы свободной личности», второй – как проповедник «слияния единства любовью». При таком отношении к поэзии и поэтам С. не мог не быть противником теории «искусства для искусства». Сторонники этой теории, по мнению С. («Первый шаг к положительной эстетике», «Вестн. Европы», 1894, янв.), были бы правы, если бы ограничивались утверждением, что художественное творчество есть особая деятельность человеческого духа, удовлетворяющая особенной потребности и имеющая собственную область; но они ошибаются, отрицая необходимое подчинение искусства общим жизненным целям человечества, проповедуя вместо законной автономии художественной области