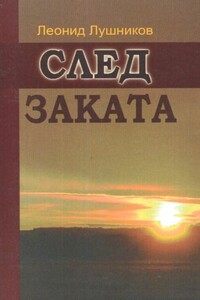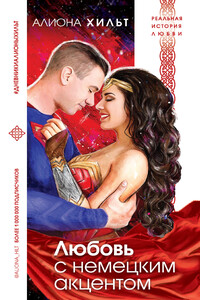Чёрная кровь | страница 23
Ходили стенка на стенку. Дрались, пока кто-то не отступит. Потом долго и с позором гнали проигравших до самого Раменского или до самой Москвы. Или через железную дорогу на другую сторону Люберец.
– Дрались тогда страшно, – рассказывал мне отец, – но зато честно. По своим законам. Баб не трогали. Не били, если упал на землю. Не воровали. Украсть, даже у чужого, считалось позором. А сейчас уже не поймёшь, у кого какие принципы. Нет их ни у кого.
Я удивлялась – как отец мог драться? Мой отец, который учил плавать, с которым на велосипеде катались, ягоды ели. Неужели он мог кого-то ударить? А Макс?
Ещё отец рассказывал, как один раз видел погром. Цыгане задели какого-то местного люберецкого авторитета, и тот привёл на ту сторону своих бойцов – бритых, в тренировочных адидасовских штанах, белых майках и высоких тяжёлых ботинках, как у военных. Отец смотрел с насыпи около станции, как эти бойцы с арматурами и железными прутьями врывались в хрупкие деревянные дома, выламывали окна, буквально вырывали и выносили двери, громя всё, что попадалось. Люди бежали, даже не пытаясь дать хоть какой-то отпор, но бежать было некуда – бритые парни взяли небольшой район в кольцо – и куда бы люди ни бежали, они натыкались на вооружённых сильных бойцов.
Всего за час этот район был разобран по косточкам. Когда приехала милиция, парни уже разошлись и разжали круг, оставляя почти всех, кто оказался зажатым в эти тиски, лежать на земле.
Несколько бритых прошли мимо моего отца. Тот увидел, что их ботинки все в крови – и шнурки вместо белых стали грязно-красными.
– Слава России! – крикнул один из них и вскинул вверх правую руку.
– Слава России! – машинально повторил отец.
Тогда впервые там, на этом пустыре, посреди развалившихся бараков, прозвучал этот клич, который я теперь слышу в организации каждую неделю. Раньше я не придавала значения этой истории отца, а теперь понимаю – уже тогда в воздухе стало пахнуть чем-то сильным и мощным. Не подвластным никому – ни закону государства, ни закону города, ни закону самих бритоголовых.
В подъезде Макса был домофон. Я вспомнила, как он учил – «Нажимай любую квартиру и говори, что нужно разнести листовки. Кто-то из жалости клюнет».
Мы так делали, когда нужно было зайти в подъезд погреться или покурить. Мы тогда стояли, прижавшись к батарее, отогреваясь, и Макс обнимал меня одной рукой, а другой держал сигарету. Потом кто-то обязательно шёл мимо и прогонял нас – и мы шли к другому подъезду. Так проходила наша зима вдвоём.