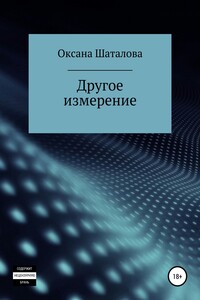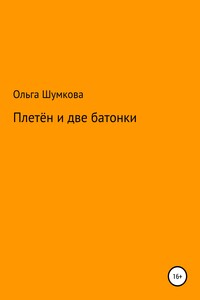В глубине осени. Сборник рассказов | страница 9
Он наскоро умылся, оделся и выскочил из подъезда.
Утро было солнечное и какое-то особенно свежее. До троллейбусной остановки минут пять быстрым шагом, а потом как повезёт: можно было доехать до самого института на восьмёрке, но она ходила редко, и Андрей решил, что доедет до Замковой горы – туда шли несколько троллейбусов – а там срезать напрямик через парк, мимо Сада молодёжи – и выскочить на Тиесос. Тут и институт рядом.
Так он и сделал.
В половине десятого Андрей входил в здание института, примыкающее к костёлам бернардинцев и святой Анны. Институт занимал бывшие монастырские покои. Экзамен уже полчаса как начался. Гардероб и коридоры были пусты. Он показал вахтёру экзаменационный билет с фотографией, служивший пропуском, и нырнул внутрь. Где находится аудитория, в которой проходит экзамен, он не знал. Стал ходить по коридорам и заглядывать во все кабинеты. Тут он увидел мужчину, по всем признакам похожего на преподавателя. Мужик начал выговаривать ему: мол, ну что же вы, как нехорошо опаздывать! – на что Андрей, сам себе удивляясь, стал говорить по-русски, что он вот только что приехал из Севастополя и не знает, как попасть на экзамен. Незнакомец взял его «на буксир» и повёл по этажам и длинным монастырским коридорам. Андрей плыл за ним и думал, для чего он соврал и что из этого выйдет. На душе спокойно-безразличный интерес, как будто всё это происходило не с ним.
Наконец они подошли к нужным дверям. Проводник вошёл первым. Андрей за ним. Большой зал был полон. Абитуриенты сидели по двое за столами. Сосредоточенно писали. Несколько женщин, принимающих экзамен, сидели за двумя столами, придвинутыми один к другому. «Овидий», как мысленно окрестил его Андрей, извинился, подошёл к женщинам и тихо по-литовски объяснил, что, дескать, паренёк приехал издалека, из Севастополя, так что дайте ему задание для выпускников русских школ.
Получалось удачно. Если бы не опоздание и не ложь, то ему, как местному жителю, окончившему русскую школу в Вильнюсе, пришлось бы писать изложение на литовском, что привело бы к неминуемой и быстрой двойке. А так он получил на выбор три темы для сочинения на русском: две из школьной литературной программы и одну свободную. Свободная тема представляла собой поговорку «Что посеешь, то и пожнёшь», и, понятно, что Андрей взялся писать о «посевах», которые можно было обильно и легко поливать словесными «во́дами», а не о Печорине или Катерине в «тёмном царстве», для раскрытия образов которых требовалось точное знание произведений классиков.