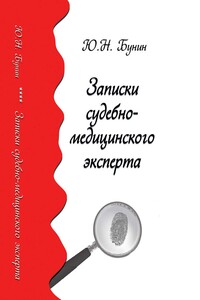Синий дым китаек | страница 52
Молока было – залейся, крынки с молоком стояли в кладовке, в погребе, в комнате на подоконнике. Сепаратора у тёти Таси не было, и потому не было ни сметаны, ни сливок, даже творога – одно молоко. Пили неснятое молоко с деревенским хлебом – очень вкусно и никогда не приедается…
Мы привозили с собой тушёнку, концентраты, мать готовила обед в огороде на маленькой металлической треноге…
Двор был тоже небольшим, с одной стороны дома – навес, под ним никогда не просыхающая грязь (казалось, его навесили специально для сохранения этой грязи), с другой – летний загон для овец и коровы.
На ночь дядя Гриша закрывал ставни, и в комнате становилось темно и глухо, как в могиле. Иногда коротко взблеивала овца или кто-то начинал шумно и яростно тереться боком о бревенчатую стену избы – и опять непогрешимая, звенящая тишина…
Мать с тётей Тасей ходили то на сенокос, то в поле полоть или окучивать картошку, то в лес за черёмухой или смородиной – нас с Лёлькой никуда не брали.
Перед тем как женщинам идти на покос, дядя Гриша с вечера отбивал литовки на специальном камне, по нескольку раз поднимая лезвие на уровень глаз и придирчиво вглядываясь, нет ли кривизны: лезвие косы должно быть прямым и острым, как бритва.
«Приподымая косулю тяжёлую, баба поранила ноженьку голую – некогда кровь унимать…»
У тёти Таси, как, наверно, и у всех колхозниц, при порезе и прочих травмах было одно средство – моча.
Учуяв, что тётя Тася с матерью собрались на покос, я ещё с вечера начинала канючить, чтобы они взяли меня с собой, но они были неумолимы: детям на покосе делать нечего.
Утром, повязав головы белыми косынками, вскинув на плечо литовки, женщины выходили за ворота – я следом с громким рёвом. Они шли не оборачиваясь: знали, что добегу до непросыхающей лужи в начале переулка и поверну назад… Для меня и сейчас загадка, как они оказывались по ту сторону лужи, не промочив ног. Когда я подбегала к «тои грязи чёрныя», они уже посверкивали косами в конце переулка… Какое-то время поскулив на берегу грязевого природного бассейна, обожаемого местными свиньями, я поворачивалась и плелась к дому…
Впереди был долгий летний день. Мы с Лёлькой, как неприкаянные, тынялись по двору, крошили курам хлеб, долго гладили рыжего Джека, пока он не начинал скалить зубы, чесали за ухом лежащего на боку и утробно похрюкивающего поросёнка, ходили на речку собирать камушки и рвать синие, быстро вянущие цветы; в полутёмных сенях, зачерпывая ковшом из ведра, пили холодную колодезную воду. Заходили в полутёмную комнату: в жару дядя Гриша для прохлады оставлял один ставень закрытым. Отрезав по ломтю от круглого каравая, посыпав хлеб крупной серой солью, шли в огород рвать молодые пупырчатые огурцы… Снова возвращались в избу, по очереди прикладывались к крынке с прохладным густым молоком, после которого на верхней губе оставались белые усы; потом (в который уж раз) принимались рассматривать свадебный портрет тёти Таси и дяди Гриши (такие ретушированные портреты висели почти в каждом доме – в нашем почему-то не было)…