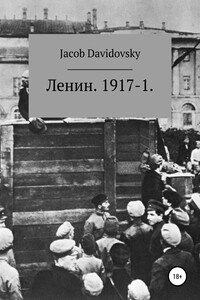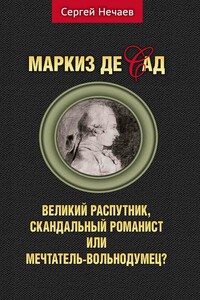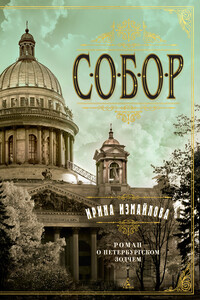Защитники прошлого | страница 42
– Это Гетто – пробормотал он, слепо махнув куда-то рукой.
Блокпост оказался воротами в еврейское гетто. Нам нужны были пропуска, их можно было без труда получить в комендатуре Гестапо в соседнем доме, но Юрген не двигался с места, пряча глаза. Ждали и мы, не понимая, что происходит. По рельсам прогрохотал трамвай с огромной шестиконечной звездой над окном водителя. Единственный вагон был почти пуст, лишь в глубине виднелась пара неясных серых фигур, да на подножке, нетерпеливо свесив одну ногу, стоял немецкий офицер в полевой форме. Табличка на борту вагона сообщала "Млынов". Это был конечный пункт маршрута и там была свобода, свобода весьма относительная и тоже серая, но все же свобода. А на другом конце трамвайного маршрута была смерть.
– Я не пойду туда – пробормотал наконец Юрген – Я просто не смогу. Простите меня и поймите. Это – как вернуться в Майданек. Я не могу.
Он по-прежнему прятал глаза и мы не решились настаивать, хотя идти без него было намного опасней. Но в этом преддверии ада, на блокпосту в один из последних его кругов, меня покинул страх. Не было ненависти, не было злобы к нацистам, не было жалости к жертвам. Все чувства исчезли, умерли, атрофировались и осталось лишь смутное понимание того, что именно туда, в преисподнюю, ведет наш путь. Тогда мы вошли в Гетто…
Высокая изгородь из вбитых в мостовую металлических швеллеров, обвитых колючкой и со спиралями колючей проволоки наверху, разделяла два мира. Там, по арийскую сторону колючей проволоки была оккупация, комендантский час, строгие законы, дефицит еды и топлива. Там было нелегко, но там можно было жить. По еврейскую сторону тоже жили и тоже страдали от голода и холода, но это была жизнь в ожидании смерти. Людям, которых сгоняли на оцепленную площадь "Умшлагплаца", больше не нужно было думать о том, где раздобыть еду или уголь для буржуйки. Их ждала только теснота эшелонов смерти и печи Треблинки. Я уже видел это в тихих, кондиционированных музейных залах. Но сейчас я был не в музее и смотрел не на фотографии. Я смотрел на тех, кого превратили в дым и пепел десятилетия тому назад. Я был здесь, среди них, мог их слышать и обонять, мог поговорить с ними. Только спасти их я не мог и не мог даже утешить, не мог рассказать про красное знамя над Берлином, про Нюрнбергский процесс и про Израиль. Я не мог это сделать не только потому, что на мне была серая эсэсовская шинель. Нет, я не мог ничего сделать, потому что все они, их пепел, давно стали историей, превратились в экспонаты чистеньких музеев, в фотографии под стеклом. Но сейчас я думал о том, что в тех музеях не должно быть чисто и не нужен там кондиционированных воздух. Нет, там должен лежать никому не нужный мусор и никому не нужные, умирающие люди и там должно пахнуть так, как пахло сейчас: безнадежность и смертью.