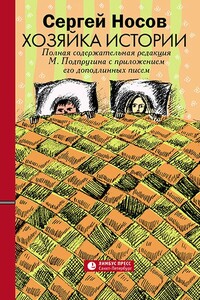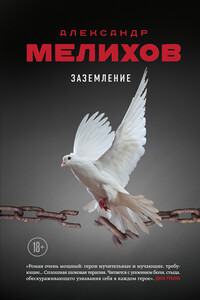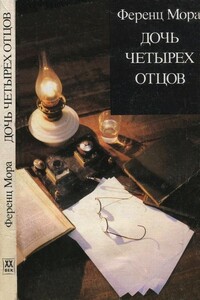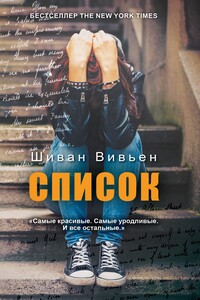Звезда Волошина | страница 43
Так получилось, что мои старшие дети росли без меня. Ну, не получилось у нас с их матерью. Разные характеры, воспитание. Всё разное. Она из большой семьи, а я детдомовский. Она привязана к дому, я больше кочевой, коллективно ориентированный. И когда началась моя служба по гарнизонам, с бытовой неустроенностью и всякими военными прелестями, её это устроить не могло, всё рухнуло окончательно. Она с детьми осела в деревне у своей мамы, в своей большой семье, а я служил и в гражданской жизни себя не видел. По мере возможности я навещал детей, раз в год, в отпуске. Так бывает, многие расходятся, и хотя это не есть хорошо, но не трагедия. Трагедия случилась, когда она умерла. Совершенно неожиданно, очень молодой. Это действительно трагедия, потому что это нельзя исправить, изменить или отменить. Это случилось.
С её родителями были невероятно трудные переговоры. Они всегда хорошо ко мне относились, всегда поддерживали и заступались. Никогда не были против моих приездов, общения с детьми. Даже когда я женился второй раз и приезжал с детьми от другого брака, они не были против, наоборот, считали, что дети должны общаться и знать друг друга. Но тут, в вопросе о дальнейшей судьбе старших детей, они заняли совершенно жёсткую позицию. Дети остаются с ними. Всё. Никакие мои доводы, например, что имею законное право и т. д., не принимались. Вопрос решён. Дети ходят в школу, дети привыкли к семье, им здесь лучше. В итоге я согласился. Правильно это или нет, сколько людей, столько мнений.
Вот с этого периода и начались сложности в общении со старшим сыном. Я, как и раньше, приезжал в отпуск. И если с дочерью никаких проблем не возникало, она всегда была рада нам, с сыном было всё сложно. Он демонстративно отказывался общаться со мной, уходил, не разговаривал, всячески избегал. Не помогали ни бабушкины беседы, ни мои. Детская обида засела очень глубоко и сильно.
Жизнь, конечно, продолжалась, дети росли. Нестабильные девяностые, безденежье, неразбериха в службе. Сокращения, восстановления. Потом сплошные южные командировки, в общем, нормально. Напряжёнка в отношениях со старшим, конечно, беспокоила, но понемногу я с этим смирился. Их бабушка мудро рассудила, что время лечит, и всё наладится. Мне ничего другого не оставалось, как принять такую линию и ждать.
В конце двухтысячного мы располагались недалеко от Грозного. Рядом стояли ВВшники, пацаны-срочники. Мы-то в основном люди взрослые, быт свой наладить умели, опыт всё-таки. А они, со своими такими же пацанами-офицерами, не очень. Вечно грязные, оборванные, полуголодные и перепуганные. Зрелище печальное и грустное. И вот тут поселилась и засела в моей голове мысль, что мой старший где-то здесь. И так сильно засела, что спать не мог, прямо навязчивая идея. Знал, что призвали, служит, но где, не знал. Личной связи у нас так и не было. При очередном посещении главного штаба достал я одного знакомого штабиста: «Узнай, успокой душу, места не нахожу. Знаю, что непросто, списки частей надо прошерстить, даже род войск не знаю, но очень прошу!» Хороший парень, с пониманием отнёсся, просьбу выполнил, спасибо ему. Через несколько дней прислал мне записку: «Не подвело тебя чутьё. Псковская дивизия ВДВ, батальон такой-то, рота такая-то, базируются под Самашками». Какое на меня это произвело впечатление, сказать не могу, не умею, вернее. Сказать, обухом по голове, так нет, ждал чего-то подобного. Ждал, но не верил, не хотел верить. А тут бац! В общем, наверное, близко будет, что земля под ногами зашаталась. И сразу: «Ну почему именно мой, неужели мало того, что я здесь. Он же ребёнок совсем». В общем, соседи ВВшники – это так надо, война, куда деваться. А вот почему свой на этой войне, осознать не то чтобы непросто – невозможно, не раскладывается по полочкам.