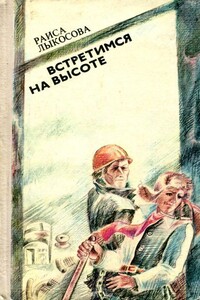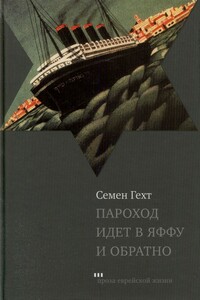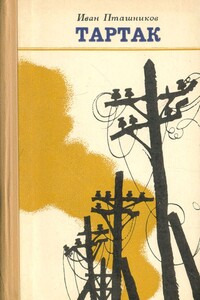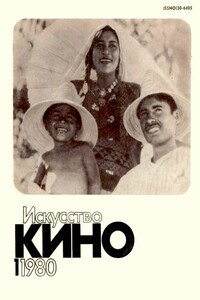Футбол в старые времена | страница 50
Я вновь попытался воззвать к благоразумию, теоретизировал о том, что хиппи в условиях нашей действительности – миф, химера, заурядное подражание, они не могут иметь под собою реальной почвы, поскольку их движение являет собою протест против чрезмерной сытости потребительского общества, а заодно и против материального изобилия, напрочь лишенного духовной основы, нам же, как известно, еще только предстоит преодолеть засилье дефицита, то есть нехватки. Что же касается духовности, то ее в нашем обществе, слава богу, пока хватает.
– Так что не понимаю, откуда они у нас берутся, – заключил я несколько туманно свое безупречное логическое построение.
– Из Голландии приезжают, – разозлился Павлик. – Из Амстердама прямо в наш переулок. Как ты раньше не замечал?
Между тем я был искренен, ничуть не кокетничал неосведомленностью, будто признаком каких-либо высших, неземных интересов моей души. Не строил из себя классную даму, удивленную неизящными манерами ломовых извозчиков. Моя причастность к настроениям и вкусам юношества и вправду ограничивалась мимолетными уличными впечатлениями. Практически я не имел о них точного представления. Они лишь долетали до меня изредка и будто бы издалека как отголоски парижской моды в былое время. Отчасти потому так получилось, что я сам еще не привык к мысли, что принадлежу к поколению, чья молодость, как ни посмотри, сделалась уже предметом воспоминаний. Я только теперь это постепенно осознаю, и то по боковым, случайным приметам. Узнавая внезапно в плечистом парне, едва ли не упирающемся затылком в потолок лифта, замурзанного соседского пацана, который вчера еще хныкал и дрался на лестнице с девчонками. В том-то и штука, что со времени этого «вчера» прошло уже шесть лет, целая жизнь – по масштабам мальчика, ставшего юношей, а со мною ничего не произошло. Я, как и раньше, езжу на работу на метро с двумя пересадками, сижу в той же самой комнате, на том же самом стуле и по-прежнему живу надеждой на счастливый случай, на мгновенную, ошеломляющую перемену судьбы. И в этом смысле, очевидно, сознаю себя личностью менее зрелой, чем многие молодые люди, окружающие меня на работе.
Они никогда не вызывали во мне настороженного чувства. Скорее они мне нравились. Они были мне симпатичны, хотя и не той симпатией, какую испытываешь к своим ровесникам и которая проистекает от совершенного знания всех обстоятельств их биографии. Нет, эти ребята располагали к себе, словно улицы незнакомого города, – его, наверное, никогда не полюбишь, как свой собственный, но зато всякий раз думаешь о нем с ощущением чистоты и доброты. А иногда и с уколами ревности, впрочем, тоже светлой и независтливой. Их поведение, приметы внешности, то впечатление, какое они, нимало о нем не заботясь, создавали, были отмечены для меня уверенностью и свободой. Может быть, как раз от того, что самому мне всегда их мучительно недоставало. И многим моим сверстникам тоже. До сих пор я не в силах забыть тот изнуряющий страх, который был неразлучен со мною в первые годы моей профессиональной карьеры, – боже, как я трепетал от того, что меня допустили в святая святых, в наш институт, как боялся, что не выдержу, не оправдаю возложенных на меня надежд – так ли уж грандиозны они были, окажусь не на уровне поставленных перед коллективом задач. Эти бесконечные сомнения в своем призвании, эта боязнь, оправданная по-своему ничтожеством моей прежней жизни, объяснимая тем благоговением, какое охватывало меня непременно в стенах пашей мастерской, среди кульманов, выставочных проектов и профессиональных разговоров, истощала мои душевные силы. Оборачивалась то позорной зависимостью от чужого мнения, то оскорбительной для окружающих заносчивостью.