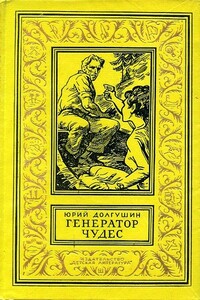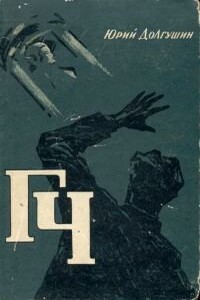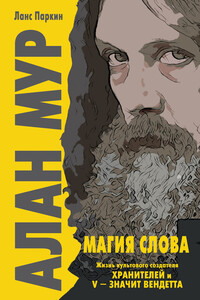У истоков новой биологии | страница 21
Двадцать лет назад такое же положение было в науке. Практика сельского хозяйства издавна знала — и всегда считалась с этим, — что длина вегетационного периода растений — величина весьма неопределенная. Но то была практика! Трудно представить себе сейчас, что тогда разрыв между наукой и практикой, несоответствие между ними считались не только допустимым, но почти закономерным явлением. «Практика одно, а наука — другое». Наука, мол, определяет «чистые», принципиальные положения, а на практике они всегда могут нарушаться разными обстоятельствами, которые невозможно учесть.
Это относилось, конечно, к той господствующей формальной, «казенной» науке, с которой всегда вели жестокую борьбу настоящие передовые ученые-одиночки, нередко лишь ценой всей жизни добивавшиеся признания своих ценнейших научных достижений.
И вот эта наука утверждала, что «природные свойства» растений не могут меняться. Поэтому новые сорта и формы растений не создавали, а «выводили», т.е. выискивали и извлекали из уже имеющегося материала или получающегося в результате простого скрещивания разнообразных форм.
Живая природа — мир животных и растений — представлялась незыблемой, постоянной, неизменной. Если же какой-нибудь новичок задавал естественный вопрос: как же согласовать эту неизменность с доказанной Дарвином эволюцией видов? — то ему авторитетно разъясняли, что с точки зрения эволюции никакой неизменности, конечно, нет. «Панта рей», как говорили греки, — «все течет, все меняется». Но эти изменения происходят чрезвычайно медленно. Нужны миллионы лет, чтобы они стали заметными. А эволюция длится сотни миллионов лет...
Словом, практически на протяжении многих поколений людей, виды животных и растений считались неизменными. Что же касается возникновения совершенно новых форм, так хорошо известного хлебопашцам и скотоводам, то наука объясняла эти факты, во множестве собранные и описанные тем же Дарвином, случайными и «незакономерными» отклонениями, которым генетика дала название «мутаций», не объяснив по существу их происхождения.
Вот почему вывод Лысенко о непостоянстве такого солидного признака сорта растения, как продолжительность его жизни, был по существу «потрясением основ». Однако сделанное открытие было для него лишь констатацией давно известного факта, причины и содержание которого нужно было еще раскрыть.
К тому же он, по-видимому, напал на верный след. Озимые виды растений не желали подчиняться закономерности в использовании тепла, которой так послушны были другие растения. Что это могло означать? Только одно: что если узнать причины этого неподчинения, то это и будет то, чего он ищет уже больше двух лет, — причины, от которых зависит длина вегетационного периода.