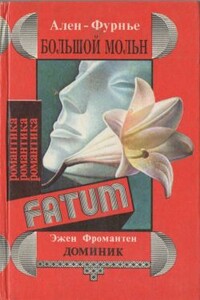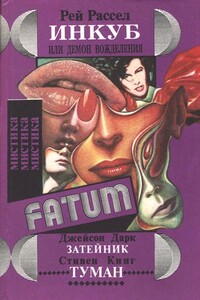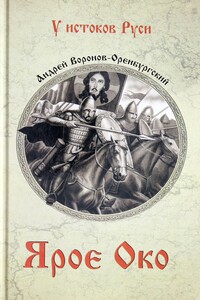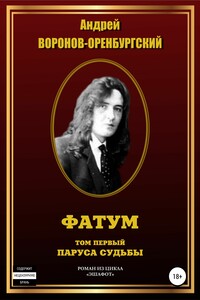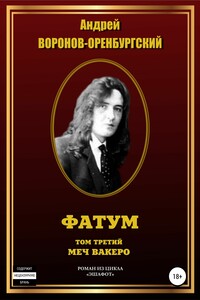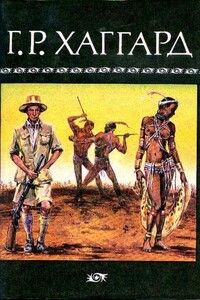Кровь на шпорах | страница 147
Его теперь видели в кают-компании лишь на обедах и редкое дело − за ужином. Орфей «Северного Орла» боле не покорял своим голосом. На все слезные просьбы друзей он отвечал рассеянным взглядом; раньше, когда хотел отвязаться, шутил: «Бесплатно лишь соловей поет», а нынче молчал и печалился.
Александр Васильевич вздохнул как ребенок. Он был уверен: в мире не было человека несчастнее его. В кои-то веки он любит, и ему, возможно, могла бы ответить взаимностью прекраснейшая из дам, которых он видел…
Но Фатум был суров: он не может перешагнуть порог морского офицерского братства. Гергалов посмотрел сквозь стекло слез на оживленный профиль Преображенского и сыграл желваками. «Мне не суждено перейти Рубикон безнадежного платонического чувства. Вот и сегодня… Вы не пришли, ясновельможная… Что ж, ваша правда, голубушка. Вы столь же восхитительны, сколь и нравственны. Я понимаю… понимаю Вас, несравненная… не казнитесь. Вы, как и я, − жертва, пленница, связанная узами благодарности с капитаном… Вы достойно храните верность нелюбимому, сжигая истинные порывы и страсть… Боже мой! Мы оба узники на этом плавучем острове грез! Возможно ли представить людей более несчастными, чем мы? Нет, моя милая, нет!»
Александр Васильевич откинулся на резную дубовую спинку и трагично уставился на поднесенный вестовым в салфетке фужер.
Матрос отпотел сверх времени и, не осмелившись тревожить «болванством», поставил хрусталь с токайским в ячейку подноса.
Гергалов сомкнул пушистые ресницы. После той встречи на юте он почувствовал себя еще несчастнее. Но как бы там ни было, он всё же был горд, что снискал-таки силы противостоять природе и не пал в глазах благородной дамы. «Вчера я сдержал себя, сегодня − прошел вдоль пропасти, но что будет завтра?..» − он опять поглядел на Андрея Сергеевича, беседовавшего с Захаровым и Шульцем.
Сердце заныло: «Господи, сохрани от греха!» − Александр опрокинул фужер, точно умирал от жажды. Нет, не мог он предать друга. Краше было иссохнуть, сгореть от страсти, чем разделить ложе с избранницей своего капитана.
В красном углу кают-компании перед божницей дрожала лампадка; милая и тихая, уносящая в безмятежное детство, где дышут теплом крестьянские избы, вялятся под солнцем плетни, пылит по золотистой дороге пестрое стадо, слышны переливы пастушьего рожка, голосистая перекличка петухов да малиновый благовест колоколен… Александр Васильевич перекрестился, покойный свет лампадки баюкал душу и ласкал теплом, отвлекая от треволнений. Ему отчего-то даже вспомнились предавние запахи богомазной мастерской, что жила в их уезде у светлой Кубани; иконы: начатые, и с последним мазком, в позолоте и серебре, дышащие елеем и ладаном. На крыльце родового дома дремлют остромордые борзые, вывалив розовые языки, а на точеных перилах, свесив лапы, сыто жмурится кот Филимон, беличий хвост которого золотит ленивое солнце.