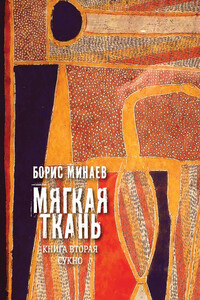Площадь Борьбы | страница 67
Темный, низенький город, с редкими отблесками светящихся витрин, если заглянуть в боковую улицу — там сразу ощущалась бесконечность: долгого поля, потом долгого неба, в которые упиралась любая улица; город был как будто затерян в степи, в космосе — это вечером, когда звезды и темно, днем же все показалось Дане уютным, деревенским и нестрашным. Однако надо было ехать на комбинат, он вышел из подъезда их нового дома, попрощавшись с Надей, — тут им, кстати говоря, обещали отдельную квартиру, но пока поселили с соседями, вышел и оглянулся на окна: Надя махала ему рукой. Дом как дом, шестиэтажный, новенький, блестел краской, сиял окнами, над каждым подъездом — звезда в колосьях, этакий медальон из алебастра или чего-то такого, белый мягкий камень, веселые завитушки над высокой дверью, огромная высоченная, хотя и ненужная арка, над аркой застекленный переход из одной части дома в другую, дом буквой «Г». В доме жили партработники, чекисты, профессора педагогического института. Чекисты многие пошли на фронт, в их квартиры подселяли эвакуированных, им освобождали комнаты. И это было тяжело, хотя и необходимо — здешние хозяйки принимали эту новую реальность с трудом, без всякой сознательности, без чувства локтя, присущего советскому человеку, иногда даже и разговаривать с новенькими не хотели, лед растапливали только дети, маленькие дети, их жалели, старались не обижать; к счастью, семью Дани поселили в квартиру, где уже жили такие же эвакуированные, приехавшие чуть раньше, у них была общая судьба, и все старались относиться ко всему с пониманием. Даня так и сказал в первый вечер — давайте с пониманием, сосед, молодой товарищ, радостно закивал; бог весть, почему именно эта квартира стояла свободная, по какой такой причине, об этом Даня старался не задумываться, не хотелось знать точно, может быть, тут жила семья арестованного и расстрелянного врага народа, чекиста или инженера, пусть лучше не точно, пусть как-то расплывчато — «возможно», «скорее всего», «говорят», «может быть» — так было легче обживать эту временную жилплощадь, да и в самой квартире от прежней жизни почти ничего не осталось — новые жильцы (семья инженера Мавлевича, приехавшая из Москвы чуть раньше) все покрасили и побелили, и пахло краской, жутко пахло краской.
Мама Надя и Этель все время открывали окна, чтобы выветрить запах, а уже стояла суровая алтайская осень, приходилось накидывать пальто, на ноги тоже что-то теплое, но мучил этот запах свежей краски, соседи постоянно стучали в дверь: это у вас такой сквозняк? — сейчас-сейчас, мы закроем. Запах — главное, что мучило Этель, чужой, незнакомый запах — там, дома, на Вышеславцевом переулке в Москве, пахло лежалым, но родным, открыв ящик комода, она могла легко различить запах старых шерстяных вещей, летних платьев. Буфет весь пропах засахаренным вареньем, прошлогодним, которого уже не осталось, и шоколадными конфетами, которые Роза таскала из буфета несмотря на жесткий запрет мамы, улицы в Марьиной Роще пахли прелыми листьями осенью и весной, скрипом забора, шумом ветра, который шел от Площади Борьбы, там почему-то всегда была роза ветров, а здесь, в Барнауле, все запахи сливались для нее в один — запах беды, неизвестности, надвигающегося несчастья. Чужой город, провинциальный, нелепый, с утра она выходила из дома, чтобы убежать от этого запаха свежей краски и шла искать работу. Диплом инженера она защитить не успела, начальник вокзала устало в который раз смотрел ее документы, ему было некогда, он вздыхал, предлагал чаю, но у вас нет диплома, говорил он, как я вас оформлю, но даже если бы и был, ну я могу кассиром вас принять, вас это устроит? — в диспетчеры вы не годитесь, в инженеры путей тоже, что я могу сделать, Этель Даниловна, вздыхал он. Старый уже человек, который помнил ад на путях, когда к востоку пробивались колчаковские поезда, набитые сверх всяких норм такими же семьями эвакуированных, беженцев, которые бежали от красных и тащили за собой весь скарб прежней жизни, бесконечный скарб, ненужные пальто, ненужные украшения, ненужные книги, ненужную посуду, избавляясь от них на толкучках и получая взамен муку, домашнюю колбасу в обмен на целый патефон или хрустальный сервиз, крестьяне тогда сильно разбогатели, но ненадолго, потом начался голод уже в деревнях, он помнил, как высаживались на станции строгие военные эшелоны с белочехами, красными латышами, с пехотными полками, с военными людьми, когда не сразу можно было понять, за кого они воюют, и которые в первые же два часа, прямо в районе вокзала, расстреливали человек десять случайных людей, чтобы установить твердый порядок, он помнил таких вот нежных девушек с огромными красивыми глазами, домашних и испуганных, которых пока еще живые отцы везли на восток, чтобы там затеряться и оставить их навсегда одних, он все помнил, этот начальник вокзала, но что он мог ей сказать — Этель Даниловна, дорогая, — но она не хотела уходить, ведь он был единственным интеллигентным человеком, которого она нашла в этом городе…