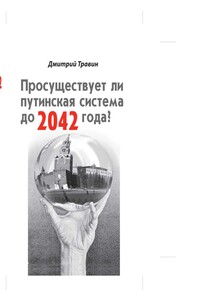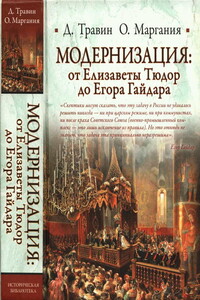Крутые горки XXI века: Постмодернизация и проблемы России | страница 25
Во-первых, крупные компании, действовавшие в развитых странах, получили практически неограниченную возможность выносить свои производства за рубеж — в те места, где рабочая сила обходится дешевле. Причем по мере роста уровня жизни и уровня доходов в одних регионах экспортеры капитала могли теперь энергично двигаться все дальше, осваивая те части планеты, где производственные издержки по-прежнему были достаточно низкими. Вслед за постепенно разбогатевшей Японией в производственном секторе мира появились Корея и Тайвань. Затем — Таиланд, Индонезия, Малайзия. Потом — Китай с Индией. Наконец, Вьетнам и Бирма. Подобное продвижение означало подрыв экономики монополистического капитализма, о которой писал Ленин сто лет назад [Ленин 1948]. Преобразование экономик развивающихся стран создавало принципиально новые возможности для усиления ценовой конкуренции. Производитель, который стремился удерживать монопольно высокие цены, в новых условиях рисковал потерять свою привычную долю рынка, поскольку на нее вторгался конкурент со сравнительно низкими издержками, обеспечиваемыми за счет выноса производства в страны с дешевой рабочей силой.
Во-вторых, в тех случаях, когда бизнес невозможно вынести за рубеж (например, в строительстве, транспорте или сфере услуг), конкуренция активизировалась за счет импорта рабочей силы. Мигранты из множества слаборазвитых стран вслед за падением авторитарных режимов и падением «железных занавесов» бросились трудоустраиваться в западном мире, стимулировав тем самым конкуренцию на рынке труда. С одной стороны, это нанесло сильный удар по традиционным профсоюзам, которым в условиях непрерывного притока из-за рубежа потенциальных штрейкбрехеров стало очень трудно держать под своим контролем уровень заработной платы. Падение профсоюзной монополии привело к тому, что рынок труда, как и рынок товаров, стал значительно более конкурентным. С другой стороны, массовый приток мигрантов обострил межнациональные отношения в развитых странах, способствовал развитию ксенофобии и во многом по-новому расставил акценты в политической борьбе, где глобалисты вынуждены были принять вызов со стороны антиглобалистов.
В-третьих, падение множества границ и экономическое единство мира создало значительно более благоприятные условия для «столкновения цивилизаций» или, по крайней мере, для развития международного терроризма. Потенциальным террористам в новых условиях уже не нужно было тайком пересекать государственные границы, ползти под колючей проволокой, прыгать на чужую территорию с парашютом или плыть с аквалангом где-то в прибрежных водах. Эти классические схемы из шпионских романов XX века окончательно ушли в прошлое. Теперь потенциальные террористы спокойно могли проживать на чужой территории, официально работать там или учиться, готовя нападение на некий объект одновременно со своей «основной» деятельностью. В условиях глобализации стало практически невозможно заранее отделить овец (честных тружеников-мигрантов) от козлищ (опасных экстремистов, склонных к насилию). В итоге ширящаяся угроза терроризма обусловила своеобразную секьюритизацию многих демократических государств. Под предлогом заботы о безопасности государство стало активнее вмешиваться в частную жизнь граждан.