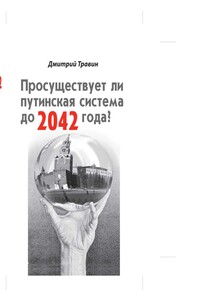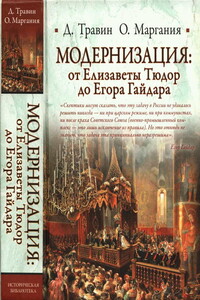Крутые горки XXI века: Постмодернизация и проблемы России | страница 24
Процесс трансформации режимов, которую американский профессор Самуэль Хантингтон назвал третьей волной демократизации [Хантингтон 20036], начался с преобразований в отстававших ранее странах Южной Европы (Греция, Испания, Португалия). Все они в итоге стали членами Евросоюза и, соответственно, частью европейского общего рынка.
Вслед за Южной Европой аналогичные процессы затронули Латинскую Америку. Этот огромный континент некоторое время неудачно экспериментировал с импортозамещением, стремясь предотвратить свое возможное экономическое «порабощение» со стороны США. Однако после успешных либеральных реформ, осуществленных в Чили при правлении генерала Аугусто Пиночета [Травин 2004: 60-117], мода на протекционизм стала уходить в прошлое. Большинство латиноамериканских государств прониклось реформаторским настроем и превратилось в полноправную часть мировой хозяйственной системы.
Радикальный перелом, сделавший глобализацию неотвратимой, произошел после того, как в 1978 году Китай начал осуществлять экономические реформы [Гренвилл 1999: 612-618; Шапиро 2009: 204-278]. Когда коммунистическая страна с нищим, но трудолюбивым населением, превышающим миллиард человек, обратилась лицом к мировому рынку, появились практически неограниченные возможности для развития производства на новых площадках. В начале 1990-х годов вслед за Китаем двинулась Индия, которая хоть и не была раньше коммунистической, тем не менее испытывала определенную склонность к административному управлению экономикой.
Важнейшим фундаментом для глобализации стала политическая трансформация множества авторитарных режимов, которая, в свою очередь, обусловила проведение глубоких экономических реформ.
И наконец, демократизация в СССР на рубеже 1980-1990-х годов обусловила распад советского военного и экономического блоков. Бывшие советские республики и государства Центральной и Восточной Европы стали формировать рыночное хозяйство (хоть и с разной степенью успешности). Это позволило западноевропейским компаниям включить в сферу своего влияния соседний регион, где проживали миллионы культурно близких людей, стремившихся вернуться к господству европейских ценностей после долгого перерыва, связанного с доминированием коммунистической экономики, политической системы и идеологии [Травин 2010а].
Сегодня на планете осталось не так уж много мест, которые не были бы интегрированы в современное мировое хозяйство. Однако самое главное — то, что глобализация ныне означает не просто количественный прирост числа рыночных экономик, но и качественные изменения в механизме их функционирования [Хелд, Гольдблатт, Макгрю, Перратон 2004].