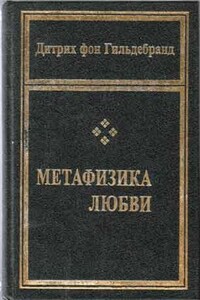Речи к немецкой нации | страница 65
Это и в самом деле чувствовали, и хотели, в этой системе, которая, полагаясь на свое механическое принуждение, может не опасаться всех прочих граждан, воспитать по крайней мере князя, от которого исходит всякое общественное движение, посредством всевозможных добрых наставлений и поучений. Но как же мы можем удостовериться, что нам попадется характер, вообще способный усвоить уроки княжеского воспитания? Или, если даже мы будем настолько счастливы, что этот воспитанник, заставить которого никто не вправе, будет наклонен и столь любезен, по собственной воле подчиниться дисциплине воспитателя?
Подобное воззрение на государственное искусство, находим ли мы его на иностранной или на немецкой почве, всегда есть иностранщина. Здесь следует однако заметить, к чести немецкой души и немецкой крови, что какими бы хорошими мастерами мы ни были в науке этого расчета принуждений, однако, если дело доходило до приложения к жизни, смутное чувство, что так не должно быть, очень и очень сдерживало наше старание, и по этой части мы отстали от заграницы. Если даже мы окажемся принуждены принять, как приготовленное для нас благодеяние, чуждые формы и законы, то нам, по крайней мере, не следует при этом сверх меры стыдиться, как будто наш острый ум неспособен одолеть и эти высоты законодательства. Поскольку же мы и в этом не отстанем ни от какой иной нации, если только сами станем направлять это дело, то пусть всю жизнь наше чувство говорит нам, что и это еще не есть наша настоящая правда, и потому пусть лучше мы пожелаем оставить в неизменности прежнее, пока не явится к нам совершенное, вместо того чтобы просто-напросто сменить прежнюю моду на новую, столь же преходящую.
Иное дело – подлинно немецкое государственное искусство. Оно тоже желает добиться прочности, надежности и независимости от слепой и непостоянной природы, и в этом совершенно согласно с заграницей. Только оно не желает создать, подобно первой, прочную и заведомо известную вещь, как первое звено, которое только и удостоверяет для нас будто бы дух, как второе звено, но с самого же начала, и как первейшее и единственное звено, оно желает полагать этот прочный и достоверный дух. Этот дух есть для него вечно движущаяся и из себя самой живая пружина, которая ныне и вовек упорядочивает и приводит в движение жизнь общества. Оно понимает, что создать этот дух могут не обвинительные тирады к уже потерянным для него и опустившимся взрослым, но только воспитание еще неиспорченного юношества; причем с этим воспитанием оно желает обратиться не к крутой вершине общества – князю, как то делает заграница, оно обращается с ним к обширной плоскости общества, ко всей нации, ибо ведь совокупность нации включает в себя, без сомнения, также и князя. Так же, как государство есть, в своих взрослых гражданах, продолжение воспитания человеческого рода, так же, полагает это государственное искусство, воспитание должно сделать самих будущих граждан восприимчивыми к этому высшему воспитанию. Тем самым это немецкое и новейшее государственное искусство становится, в свою очередь, наидревнейшим; ибо и государственное искусство греков желало основать гражданское достоинство на воспитании, и образовывало граждан, каких уже не видали следующие эпохи человечества. По форме то же самое, по содержанию же – не в мелочном и исключительном, но в общем и космополитическом духе, будет делать отныне и немец. Тот же самый дух заграницы господствует у огромного большинства наших соотечественников также и в их воззрении на совокупную жизнь человеческого рода и на историю как образ этой жизни. Нация, у которой основа ее языка мертва и законченна, может, как мы показали это в одной из прошлых речей, достичь во всех словесных искусствах только известной ступени совершенства образования, которую допускает для нее эта основа; и достигнув этой ступени, она переживет свой золотой век. Такая нация, если не свойственна ей величайшая скромность и самоотверженность, едва ли могла бы допустить более возвышенную мысль и обо всем человеческом роде, чем какой она знает сама себя; поэтому она необходимо должна предположить, что и для образования рода человеческого явится впоследствии некая последняя, высшая и непревосходимая цель. Так же, как животное племя бобров или пчел и сегодня строит свои дома так же точно, как строило тысячелетия назад, и за это долгое время нимало не продвинулось вперед в строительном искусстве, так же точно, по ее мнению, будет обстоять дело и с животным племенем по имени «человек», во всех отраслях его образования. Эти отрасли, влечения и способности можно будет исчерпывающим образом охватить мыслью, и даже, может быть, в одном-двух членах даже представить взгляду с полной наглядностью, и можно будет, как предполагают, указать для каждой из отраслей и способностей высшую ступень развития. Быть может, человеческому роду это удастся даже намного хуже, чем племени бобров или пчел, оттого что последнее, хотя и не научается ничему новому, однако искусство его и не убывает, человека же, если даже достигнет однажды вершины, посторонняя сила вновь отбрасывает назад, и тогда он может веками или тысячелетиями пытаться вернуться вновь в ту точку, где лучше было бы оставить его с самого же начала. И подобных точек зенита в своем образовании, подобного золотого века человеческий род, по мнению этих людей, без сомнения, уже достигал; отыскать эти точки в его истории, и оценить по мерке их все усилия человечества и возвратить человечество к этим точкам зенита – таково будет их самое усердное желание. История, по их мнению, давно уже готова и закончена, и бывала закончена уже неоднократно; по их мнению, нет ничего нового под солнцем, ибо они истребили, и под солнцем, и над солнцем, источник вечной жизни, и допускают только повторение и многократное полагание вечно возвращающейся смерти.