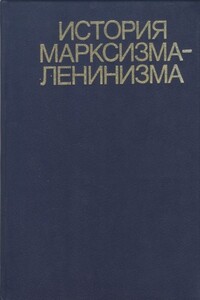Речи к немецкой нации | страница 120
Что же думали бы, напротив, те, кто питал бы все-таки подобные страхи и своими действиями обнаруживал бы публично свой страх, – что думали бы они про себя, и в чем гласно перед всем миром сознавались бы, говоря подобное? Они сознавались бы в своем убеждении, что над нами властвует мизантроп, мелкий и низменный принцип, который страшится любого проявления самостоятельной силы, который не может и слышать без боязни о нравственности, религии, облагорожении души, и для которого спасение и надежда заключаются единственно только в унижении людей, в их тупости и в их пороках. И с такой их верой, которая прибавила бы ко всем нашим прочим бедам еще и тяжкий позор – быть под властью подобного человека, – нам предлагают теперь безоговорочно, без каких-либо предварительных и очевидных доказательств, согласиться, и действовать согласно с нею?
Предположим даже самое худшее; предположим, что правы они, а не мы, самым делом предполагающие именно первую из возможностей. Разве же тогда и в самом деле, в угоду тому, кому это приятно, и в угоду им, боязливым, должен род людской унизиться и погибнуть, и никому не позволено предостеречь его от окончательной гибели, если сердце его повелевает ему сделать это? Предположим даже, что не только они правы, но что и мы обязаны решиться признать их правоту, перед лицом всех современников и потомков, и высказать во всеуслышание указанное только что суждение о самих себе: что же самое высшее и последнее могло бы последовать из того для непрошеного предсказателя? Знают ли они что-нибудь большее, чем смерть? Смерть же и так ожидает всех нас, и от начала человечества благородные натуры презирали смертельные опасности и ради менее значительных целей – ибо где бывала когда-нибудь цель выше той, о которой идет речь ныне? Кто же вправе стать на пути такого дела, которое затеяно с риском для жизни?
Если, – хотя я надеюсь, что это не так, – если среди нас, немцев, есть подобные люди, то они, не спрашивая позволения, не требуя благодарности, подставят свою шею под ярмо духовного холопства, и, как я надеюсь, будут отвергнуты. Тогда они, жестоко бранясь, – ведь они-то, не зная, как чувствует подлинно великий человек, и оценивая его мысли по мерке собственной своей духовной ясности, думали тонко и политически мудро польстить, – воспользуются литературой, в которой не видят иного смысла, чтобы, заколов ее как жертвенного быка, услужить этим на свой манер своему повелителю. Мы же, напротив, самим нашим доверием и самой нашей смелостью восхваляем, намного более, чем то когда-либо могут выразить слова, величие той души, которая над нами властвует. По всей той земле, где звучит немецкая речь, повсюду, где только раздается свободно и беспрепятственно наш народный голос, она, самим своим существованием, взывает к немцам: «не хотим от вас угнетения, вашего холопства, рабской покорности, но хотим вашей самостоятельности, вашей истинной свободы, хотим возвысить и облагородить вас, ибо не мешаем вам публично советоваться об этом и указываем вам на безошибочное средство для достижения всего этого». Если этот голос будет услышан и возымеет желаемое действие, то он воздвигнет в потоке столетий такой памятник этому величию и нашей вере в это величие, который не сможет разрушить никакое время, но который будет расти все выше, и распространяться все дальше, с каждым новым поколением. Кто же посмеет воспротивиться попытке воздвигнуть подобный памятник? А потому, вместо того чтобы утешать нас в утрате нашей самостоятельности, указывая нам на будущее процветание нашей литературы, и подобными утешениями удерживать нас от поиска средства к восстановлению этой самостоятельности, мы хотели бы узнать, дозволяют ли и сегодня те немцы, которым поручено исполнять своего рода опеку над литературой, другим немцам, которые пишут сами или читают сочинения других, иметь литературу в подлинном смысле этого слова, и считают ли они, что литература подобного рода в настоящее время все еще разрешена в Германии, или же нет; но то, как они в самом деле об этом думают, непременно выяснится в самом скором времени.